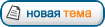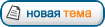Колибуков, Николай Иванович
Аджимушкай
ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ КЕРЧИ
И ВОИНАМ-УЧАСТНИКАМ
ГЕРОИЧЕСКИХ СРАЖЕНИЙ НА КЕРЧЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
Сердечно поздравляю вас с присвоением городу Керчи высокого и почетного звания "Город-герой", награждением орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда"!
Величайший героизм и самоотверженность, проявленные Вами в борьбе с фашистскими захватчиками, получили достойную оценку. В этой награде — благодарность Родины, партии, правительства и всего советского народа героическим воинам, непосредственным участникам сражений на Крымском полуострове, мужественному подвигу советских, патриотов в Аджимушкайских каменоломнях, веем трудящимся города, проявившим огромную выдержку и стойкость, отдавшим все силы во имя нашей победы.
Желаю Вам, дорогие товарищи, доброго здоровья, личного счастья и успехов в труде на благо нашего социалистического Отечества!
Слава городу-герою Керчи!
Вечная слава героическим защитникам свободы и независимости нашей великой Родины!
Л. БРЕЖНЕВ
Письмо матери
1
В комнате сижу один. Мать ушла на колхозный огород. Скоро вернется. Придет, как всегда, сядет у стола и будет молча перебирать бахрому шали: в это время она думает об отце. Зашумлю — обижается: посмотрит на меня большими темными глазами и упрекнет:
— Быстро ты забываешь отца...
Мне становится обидно: я любил отца и никогда не забуду его. Он испытывал на себе какое-то изобретенное им лекарство, чуть изменил дозировку — и организм не выдержал... Его уважали в станице, но похороны прошли как-то незаметно. Людям было не до врача — в тот день радио сообщило о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Мама этого не понимает.
Перед нашим домом здание райвоенкомата. Здесь днем и ночью толчея — формируются роты и отправляются на фронт. Мать опасается, что я тоже могу уйти с какой-нибудь частью и ей придется одной остаться со своим горем. Но, дорогая мама, я уже взрослый, перешел на второй курс литфака. О моя умная, трудолюбивая! Как ты этого не поймешь — я не могу остаться дома.
Убираю в комнате, развожу примус, готовлю обед. На это уходит час. Потом подхожу к окну и снова смотрю на людской муравейник. Весь мир представляется горящим факелом... И дым, дым, густой, черный, стелется по земле. Так в воображении рисуется война.
Выхожу на крыльцо. У порога стоит Шапкин. Он одет в красноармейскую форму.
— Захар, ты откуда?
— А-а, признал... Я, брат, теперь боец... С прошлым покончено, отпустили. Не успел порог переступить, как тут же и повестка; явиться на призывной пункт.
Он поднимается по ступенькам, что-то рассказывает о своем скитании, но я слушаю его плохо. Прошлым летом Шапкина судили за какие-то фальшивые документы, по которым он устроился заведующим гастрономическим магазином. Тогда Захар приходил в больницу, упрашивал отца выдать ему справку о том, что у него плохо со здоровьем. Родных у него не было, жил на частной квартире, снимая маленькую комнатушку. Не знаю почему, но Захар часто приводил меня к себе, угощал колбасой. И вдруг узнаю: Шапкин совершил преступление. Я не поверил этому и просил отца помочь Захару. Шапкину нужна была справка, что он нервнобольной. Конечно, отец на это не пошел. Захар был осужден на один год.
— Пришел поблагодарить твоего батюшку... Впрочем, старое вспоминать не время. Тебя-то еще не забирают?
— Сам думаю идти. Здесь формируется часть. Как — возьмут?
Захар окидывает меня взглядом с ног до головы:
— А чего тебе там делать? В первом же бою заскулишь... Я, брат, фронт знаю. На Хасане приходилось ходить врукопашную...
— Ну и что?
— Да ничего.. А ты что, серьезно решил? — вдруг спрашивает он, улыбаясь одними глазами.
— Серьезно.
— Правильно поступаешь. Если бы мне повестки не прислали, я все равно пошел бы. Вон школу видишь? Приходи, там наша рота, вместе будем служить. У нас хороший командир... лейтенант Сомов. Он меня отпустил на два часа. Так что, ты давай. Нынче каждый обязан быть там, лицом к лицу с врагом. — И, сбежав с крыльца, повторяет: — Приходи, приходи, Самбуров, уж мы им там покажем, как на Россию поднимать руку.
Гляжу ему вслед и думаю: "Вот вам и Шапкин. Молодец!".
Поздно вечером приходит мать. Не раздеваясь, она тихонько садится рядом, прижимает меня к груди.
— О чем думаешь, Коленька?
— Ни о чем, мама.
— Не оставляй меня одну... Я знаю, ты уходить задумал.
— Мама...
— Не обманывай... Все уходят, и ты должен быть там.
У ворот нос к носу столкнулся с часовым.
— Товарищ, мне бы в часть попасть...
— А ты кто? — Голос знакомый: это же Захар!
С радостью отзываюсь:
— Захар, это я, Самбуров!
— Валяй отсюда, чего стоишь, здесь тебе не пункт скорой помощи. — Он освещает меня карманным фонариком. Не узнает, что ли?
— Слышишь, это я, Самбуров.
— Уходи, уходи, нечего тут стоять, — повторяет он.
— Товарищ Шапкин, вы с кем там разговариваете? — спрашивает кто-то издали.
— Да вот тут какой-то рвется в роту.
Слышатся шаги. Передо мной вырастает высокая фигура военного. Глухой щелчок — и пучок света выхватывает меня из темноты.
— Пойдемте.
Входим в помещение. На полу, плотно прижавшись друг к другу, лежат бойцы. Многие в штатском. Из-за стола навстречу нам поднимается огромного роста красноармеец.
— Командир роты не приходил? — спрашивает его высокий, с большими красными звездами на рукавах. "Политрук", — определяю я.
— Был, товарищ Правдин, ушел в штаб, вроде как завтра отправляемся.
— Значит, на фронт желаешь? — спрашивает меня Правдин, потом поворачивается к бойцу. — Как, Кувалдин, возьмем? Паренек вроде подходящий.
— Хрупок больно, — окает красноармеец.
— Оружие знаешь? — продолжает политрук. — Из винтовки стрелял?
Он достает из сумки гранату.
— Разбери. Смелее, капсюля нет... Та-ак, — тянет политрук. — Правильно действуешь. — Он дает мне винтовку и просит назвать основные части. Когда я успешно выдерживаю экзамен, Правдин решает: — Хорошо. Утром получите обмундирование, винтовку. — Он встает, набрасывает на плечи шинель, закуривает:
— Война, братец ты мой, война... Весь народ встает под ружье, — произносит политрук и, погасив папиросу, скрывается за дверью.
Спрашиваю Кувалдина, твердо ли решил Правдин зачислить меня в роту. Может, он пошутил?
— Таким делом не шутят... Ложись и отдыхай, — советует Кувалдин и первым опускается на разостланный брезент. Через минуту он спрашивает: — Говоришь, в Ростове учился, в пединституте?.. Случаем, Сергеенко Аню не встречал там?
Отвечаю не сразу. В памяти ожил один воскресный день. Редкий лесок. Неожиданно полил дождь. Прижавшись к ветвистому дубу, мы стоим с Аней Сергеенко: этого момента я давно ждал. "Знаешь что, — вдруг осмелел я. — Сейчас поцелую". Аня, прикрыв ладонью губы, засмеялась: "Опоздал". И погрозила пальцем: "Я другому отдана и буду век ему верна". — "Кто же он?" Она тряхнула кудрями: "Красноармеец молодой, статный и лихой". Мокрая, с большими лучистыми глазами, она отпрянула в сторону и убежала. Потом почти каждую ночь я видел ее во сне, стоящую под ветвями дуба. Неужели о ней спрашивает Кувалдин?
— Знал. Когда началась война, она оставила институт и поступила на курсы радистов.
— Ты спи, спи, — вдруг заторопил Кувалдин.
2
Идем шестой час без отдыха. Ноги и кисти рук отяжелели, словно к ним прицепили свинцовые гири. В горле жжет: возьми глоток воды — и она закипит во рту.
Впереди, метрах в двадцати, — командир и политрук роты. Сомов среднего роста, с выгнутыми ногами, с широкой спиной и короткой шеей, на которой посажена голова с плоским крепким затылком. Политрук очень высокий. Говорят, он попал с Черноморского флота, где был секретарем комсомольской организации корабля. Сомов и Правдин идут не оглядываясь, будто и нет позади них колонны. Но стоит только замедлить движение, они сразу поворачиваются и раздается звенящий голос Сомова:
— Подтянуться!
Рядом со мной шагает Кувалдин. На лице его слой пыли, глаза воспалены, большая кисть крепко сжимает ружейный ремень. Егор с виду тяжел и неповоротлив. Он служит в армии с тридцать девятого года. Родом из Москвы. Когда на второй день там, в школе, разговорились с ним, он признался: "Я-то вначале подумал, что ты из музыкантов. Хрупок больно. А, оказывается, ты — Пупкин — генерал Кукушкин".
Бойцы засмеялись. Я тогда не обиделся на этого здоровяка, только подумал: "Война и студента делает солдатом".
Сомов и Правдин останавливаются.
— Прр-и-и-вал!
Падаю на жухлую траву и лежу неподвижно. Гудят ноги, горит спина, натертая вещевым мешком; слышу говор. Потом все пропадает. Просыпаюсь от толчка в бок стоит Правдин.
— Положите ноги выше, быстрее отойдут, — говорит он, чуть склонившись надо мной.
— Студент, литератор, — глядя на меня, говорит Кувалдин. В его чуть припухших губах дымит самокрутка, один глаз прищурен.
Поворачиваюсь на спину и кладу ноги на вещевой мешок.
— Сними сапоги, — советует Егор.
— Правильно, — поддерживает политрук и идет к другим бойцам.
Надо мной висит опрокинутая чаша голубого неба.
В детстве я мечтал стать строителем межпланетного корабля, увлекался литературой о Галактике. Думаю сейчас об этом просто так, лишь бы не лезли в голову мысли о доме. Издали доносятся глухие звуки бомбежки, далеко, почти у самого горизонта, скользят по небу крохотные точки самолетов. Тяжелый молот войны уже который месяц колотит землю.
Над кем-то подшучивает Кувалдин. Ему возражает лихой свистящий голос:
— Списали Чупрахина? Нет, Егор, так обо мне не думай. Просто корабль наш вышел из строя. А куда податься? Вот и пришлось надевать пехотную одежонку... Но ничего, матрос и на земле не потеряется. Так, что ли, философ?
Философом ребята уже успели прозвать Кирилла Беленького за его длинные речи. Кирилл, до того как попасть в нашу роту, два года служил в кавалерийской дивизии и работал в многотиражной газете корректором. Хотя такой должности в штабе не было, но, по его словам, он чувствовал себя там довольно прочно.
— Так-то оно так, — глубокомысленно отзывается Кирилл. — Но если посмотреть в корень твоего дела, мы увидим прежде всего наличие такой ситуации: с одной стороны, ты человек моря, с другой стороны, — пехотинец...
— А с третьей стороны? — подзадоривает кто-то Беленького.
— Третьей стороны у человека не бывает, — продолжает Кирилл с прежним глубокомыслием. — А почему я говорю так? Почему? — настаивает он.
— Потому что ты философ, — шутит Кувалдин.
— Глупости! — сердится Кирилл.
Поднимаюсь, смотрю на спорщиков. Егор, поджав под себя ноги, жует сухарь, глядя с ухмылкой на рассерженного философа. Третий лежит, из-под расстегнутой гимнастерки виднеется тельняшка. Это и есть Чупрахин, все еще тоскующий по морю, по своему вышедшему из строя кораблю. Рядом с ним Алексей Мухин. Он, как и я, попал в маршевую роту добровольцем. С ним мы сошлись быстро. Алексей сказал мне, что у матери он один. Отец в действующей армии, командует полком.
Мать не отпускала Мухина, и он ушел тайком. Таких в роте много. Мы стараемся быть ближе к кадровым бойцам, считая их опытными и подготовленными людьми.
— Как, по-твоему, Кувалдин, война долго протянется? — Мухин смотрит на Егора, и в его взгляде отражается любовь и доверие к тихому великану.
— Я не генерал. Вот, может, студент ответит, — улыбается одними глазами Кувалдин и начинает протирать винтовку куском суконки, которая хранится у него за голенищем.
— А что тут знать? Конечно, недолго, — отзывается Шапкин, сидящий в стороне возле пулемета.
Егор прищуривает один глаз:
— Ты что же, пророк? — Он аккуратно складывает суконку и прячет ее на прежнее место.
— Пророк не пророк, а соображение имею, — отвечает Захар.
— Говорят, что мы отступаем добровольно, — тенорком произносит Мухин, глядя на Беленького, который почему-то на этот раз молчит.
— Вот заманим в глубь страны, потом трахнем по башке. Стратегия! — продолжает Шапкин с видом знатока фронтовых дел. В роте уже все знают, что Захар — участник хасанских боев, и нам нравится его слово "стратегия", хотя никто из нас и не понимает, что оно, в сущности, означает. Только Егор не поддерживает Шапкина:
— Ишь ты, "стратегия"! Слыхал, Чупрахин? — Иван застегивает ворот гимнастерки:
— Слово-то какое — "стратегия"! Ты что, Шапкин, военную академию окончил или без образования морочишь нам головы?
Подсаживается политрук. Он успел побриться, подшить чистый подворотничок. Глядя на него, не скажешь, что мы прошли пятьдесят километров, дыша едкой и густой дорожной пылью. Правдин приказывает позвать к нему всех бойцов: он намерен что-то сообщить нам и, видимо, хорошее. Плотным кольцом окружаем политрука.
— Товарищи! — обращается к нам Правдин. Голос у него чистый, чуть приподнятый. — В Москве, на Красной площади, только что состоялся традиционный парад.
— Как прежде, седьмого ноября? — спрашивает Мухин.
— Да, как прежде, в мирное время.
У Чупрахина загораются глаза, и он, работая локтями, протискивается ближе к Правдину.
— Парад, Егорка.. Слышишь, о чем говорят?
— Тихо!-останавливает его Кувалдин.
— Сталин поздравил народ и Красную Армию с великим праздником, он сказал, что на нас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские полчища фашистских захватчиков.
В наступившей тишине вдруг раздается басок.
— А чего же город за городом сдаем фрицам? Утром Шапкин сказывал: под Ростовом опять неустойка.
Шапкин нервно дергает плечами, на его сухом, бесцветном лице появляется неестественная улыбка.
— А чего тут объяснять? — спешит он опередить политрука. — Если отошли, значит, так надо. Стратегия, понимаете, — глухо заканчивает он.
— Вот и неверно, — замечает Правдин Шапкину. — Если отошли, значит, на том участке фронта противник оказался сильнее наших войск. Зачем же так просто сдавать территорию врагу? Ведь это не спорт, а война, жестокая, смертельная.
— Значит, он, проклятый, все же сильнее нас, а? — с детской откровенностью спрашивает Мухин.
— Сильнее? — повторяет политрук и, подумав немного, отвечает убежденно:
— Нет, товарищи, не сильнее! Враг опытнее нас. Но это только сегодня, завтра уже он не будет таким...
— Да и внезапность на его стороне, — коротко вставляет Кувалдин.
— Вещь серьезная, внезапность-то, — подхватывает Чупрахин. — Я — вот такой пример приведу. У нас в деревне печник жил, Бушуем его прозвали. Здоровенный, что слон. Бывало, выпьет, шумит на всю деревню, а придет домой — бьет жену. Однажды этой бабенке умный человек посоветовал: "Ты, Дарья, хорошенько проучи своего Бушуя". — "Как же я его проучу, — отвечает жена печника. — Он быку шею воротит". А умный человек свое: "А вот так: Переоденься во все мужское — и вечерком из-за угла с поленом". Так и сделала баба-то. Караул кричал. А когда прибежали соседи, разобрались, а перед Бушуем стоит его Дарья. Печник зверем взвыл: хотел жену решить. Соседи не дали, говорят: "После драки кулаками не машут". Вот как получается, если неожиданно напасть, как они на нас, немцы-то. Словно кирпичи на нашу голову свалились.
Просит слово Шапкин, политрук перед выходом назначил его командиром отделения.
— Печник... дурак твой печник, — говорит Захар, отталкивая в сторону Чупрахина. — Бабы испугался. Вот что я скажу: они, германцы, начали войну, а мы ее кончим. Мы — это не Бушуй, разберемся, кто встал против нас. Правильно я говорю? Правильно.
Беседу прерывает команда ротного. Выстраиваемся в походную колонну и снова идем по пыльной дороге. Справа у меня Кувалдин, слева, как и прежде, Мухин, рядом с ним Чупрахин, впереди шагает Беленький, гордо, чуть склонив на плечо голову.
Солнце клонится к закату. Проходим притихшую станицу. Кувалдин толкает локтем в бок, показывая на плетень, возле которого пугливой стайкой столпились малыши:
— Смотри, как воробушки чирикают, тоже соображают.
У колодца рота останавливается. Подходит сухой и тонкий старик. Кряхтя и опираясь на палку, он снимает запыленный картуз и высохшей рукой показывает на запад.
— Туда идете? Сколько вас тут идет, а он все пре и пре. Срам! — дребезжащим голосом говорит старик и ковыляет к воротам.
В наступившей тишине раздается голос Шапкина!
— Паникер!
— Отсталый элемент, — поддерживает его Беленький.
— Смирно! Ша-го-ом марш! — Сомов взмахивает рукой, и мы вновь пылим по дороге.
Сгущаются сумерки. На небе вспыхивают звезды. Кругом тишина. В душе черт знает что творится! И всему причина — этот старик. Может быть, и в самом деле он паникер? Я еще не видел живых паникеров. Стараясь отвлечься от назойливых мыслей, напряженно вглядываюсь в темноту: впереди идут командир и политрук. Вдруг их фигуры сливаются, и передо мной снова вырастает дед. Вижу старика отчетливо, словно он рядом, вижу каждую морщинку на его усталом лице, реденькую белую бороденку, бесцветные глаза, широкий лоб, сухую руку, испещренную синими венами. "Что ты, старый, ко мне пристал?" А он в ответ: "Что, нехорошо? Ты, брат, не отворачивайся от меня".
Слышу голос Кувалдина:
— Ты, студент, запомни слова старика.
— По-твоему, он не паникер? — поспешно отзывается Чупрахин.
— Я с ним не служил, — отвечает Кувалдин.
Егор скуп на слова, а если приходится ему вступать в разговор, с его губ слетают короткие фразы, похожие на загадки. Сожалею, что сейчас поблизости нет Шапкина или Кирилла, а еще бы лучше, если бы был политрук. У Правдина, видимо, прямое и чистое сердце. Почему-то кажется, что сейчас нет труднее дела, которое он несет на своих плечах. Почему мы отступаем, почему как-то не так получается, как мы думали раньше о войне? Для многих из нас эти вопросы — что для первоклассника алгебраические задачи. А политрук обязан ответить на них. Обязан.
— Рота, стой! — командует Сомов.
К колонне подъезжает легковая машина. Открывается дверца, и перед командиром и политруком роты вырастает коренастая фигура военного, затянутого ремнями.
— Кто здесь старший?
— Я, лейтенант Сомов.
— Вы команда двадцать два тридцать пять?
— Так точно, товарищ полковник.
— Я командир дивизии Хижняков, вот мои документы. Вам необходимо изменить маршрут и следовать в район Темрюка. — Полковник включает карманный фонарик и, развернув карту, поясняет: — Вот здесь, у развилки дорог, вас встретит мой начальник разведки подполковник Шатров. Вы поступите в его распоряжение. Поторапливайтесь. О маскировке не забывайте. Может появиться воздушный противник.
Машина, фыркнув, пропадает в темноте.
Стоим молча в ожидании новых распоряжений. С нарастающей силой доносится гул самолетов. Гул прерывчатый, странный. "Вез-зу, вез-зу", — металлическим голосом выговаривает мотор.
— Воздух!
Рассыпаемся по обочинам дороги. Падаю в какое-то углубление и чувствую под собой копошащегося человека. Горячая тугая волна срывает со спины вещевой мешок. Рвутся бомбы. Захлебываясь, в воздухе со свистом и шипением прилетают осколки. Человек подо мной уже не шевелится. Он притих, словно скованный мгновенным крепким сном. Пытаюсь ощупать его и вдруг под ладонью чувствую ствол пулемета. Торопливо вставляю в приемник диск и, ни о чем не думая, длинными очередями стреляю в темный полог ночи.
— Сумасшедший! Ты же демаскируешь! — срывающимся голосом кричит Шапкин и выхватывает из моих рук пулемет. — Лежи и не шевелись! Приказа стрелять не было. Понимать надо! — гневно заключает он.
Внезапно наступает тишина. Пахнет гарью. Захар вскакивает на ноги и посылает куда-то две короткие очереди. Молча ищу вещевой мешок, сталкиваюсь с Чупрахиным.
— Чью-то сумку ко мне забросило, — говорит он.
— В колонну по четыре, рота стройся! — командует Сомов.
Построив нас лейтенант спрашивает:
— Раненые есть?
Раненых оказалось шесть человек. Их выделяют в отдельную группу и, назначив одного из них старшим, оставляют дожидаться попутной машины, Сомов обращается к нам с короткой речью:
— Вы получили боевое крещение, правда, маленькое, но все же это боевое крещение. Мне нравятся действия командира отделения Шапкина. Он не испугался бомбежки, открыл огонь по фашистским самолетам. Так должен поступать каждый боец.
Идем без остановок. Мучает вопрос: сказать ли Егору о том, что огонь из пулемета открыл не Шапкин, а я? Наконец решаю — дело не в том, кто это сделал, важно другое: нашелся такой боец, и главное — командир признал такие действия правильными. Да и зачем в неудобное положение ставить Шапкина, еще сочтут, что я пытаюсь прославиться.
Что-то отстает Мухин. Тревожно посматриваю на него.
— Алексей, устал?
— Ранен... Молчи, никому ни слова.
Чупрахин кладет его руку себе на плечо.
— В строю не разговаривают, — полушепотом произносит Кувалдин. — Крепче опирайся на матроса Самбуров, возьми у Мухина винтовку,
3
Шапкин дает нам по очереди бинокль и велит посмотреть на чернеющий в море берег Керченского полуострова. Прикладываю к глазам прибор. Холодный металл обжигает переносье, терплю и с затаенным дыханием стараюсь увидеть там фашистов.
Но, кроме серой расплывчатой массы, ничего не вижу. Молча передаю бинокль Мухину. Чупрахин, сбив ушанку на затылок, сидит на бруствере окопа и говорит:
— Зря стараешься, Алеша, расстояние большое.
— Наблюдение продолжать! — упорствует Шапкин. Месяц назад приказом командира дивизии ему присвоили воинское звание старшего сержанта и поставили временно командовать взводом. Отделение теперь возглавляет Кувалдин. Шапкин одет в новенькую шинель с треугольниками на петлицах. Она ему очень идет, как-то по-особому оттеняет, суровое, немного настороженное лицо.
— По всему видать: будем высаживаться в Керчи, — говорит Шапкин. — Это, пожалуй, труднее, чем на Хасане было. Хотите, расскажу, как мы там самураев утюжили?..
Кирилл подмигивает мне:
— Наш командир — огонь! Я о нем заметку во фронтовую газету послал. Все рассказал, как он на марше по самолетам открыл огонь, как вот командиром стал... Хочется, чтобы меня там, в редакции, заметили. Писать я умею. Заметят?
— Обязательно, и тебя и Шапкина, — отвечаю я и, взяв кирку, начинаю углублять окоп. Под ударами звенит и крошится схваченная морозом земля.
Приходят подполковник Шатров и лейтенант Сомов. Шатров невысокого роста, прямой, на нем ладно сидит обмундирование. Если бы не шрам на щеке, он был бы красавцем. Но рубец с голубым отливом испортил лицо. Шатров приказывает отвести роту в укрытие и построить в две шеренги.
— Медленно работаете. Другие уже отрыли окопы, — упрекает Шатров.
Он достает из планшета какой-то листок.
— "Шапкин Захар Петрович", — читает он.
— Я, — чуть подавшись вперед, откликается старший сержант.
— Правильно назвал вашу фамилию, имя и отчество?
— Правильно.
— Десять шагов вперед, марш!
Шатров обходит кругом Захара и вдруг неожиданно для нас палит из пистолета в воздух, Шапкин вздрагивает, виновато улыбается.
— Закалки не чувствую! Становитесь в строй.
Подобную операцию Шатров проделывает с каждым. Сзади Кувалдина он поджег взрыв-пакет. Егор, тихо вздохнув, и ухом не повел.
— Как у вас со слухом?
— Хорошо, не обижаюсь,
— На сколько метров бросаете гранату?
— Когда как, со злости швырну метров на шестьдесят.
Шатров отступает назад и вопросительно смотрит на Сомова, потом на Егора.
— Я серьезно спрашиваю.
— Понимаю, — роняет Кувалдин.
Подполковник вынимает из кармана шинели деревянную болванку, обитую железом, и передает ее Кувалдину.
— Бросайте!
Егор мощным взмахом рассекает воздух. Граната с клекотом описывает в воздухе дугу и падает далеко за курганом.
— Со злостью бросали? — с улыбкой спрашивает Шатров и приказывает измерить расстояние.
— Семьдесят шагов, — возвратясь, докладывает Сомов.
— Подходяще, становитесь в строй. Беленький!
— Я!
— Наденьте противогаз!
— Есть!
Кирилл торопится. Но движения его неуверенны и неотработанны. Видимо, не часто приходилось заниматься таким делом. Когда наконец он надевает противогаз, подполковник приказывает:
— Бегом до той высоты и обратно. Марш!
Кирилл, бежит тяжело. Но все же преодолевает расстояние. Встав в строй, Беленький жадно глотает воздух.
— Трудно? — спрашивает у него Шатров.
— Почему трудно?.. Я грамотный человек, понимаю, что к чему.
— Хорошо. А все же трудно?
— Нет, — глотнув очередную порцию воздуха, упорствует Кирилл.
— Похвально. Где служили?
— В кавалерийской дивизии. В маршевую роту попал из госпиталя. Животом болею. От грубой пищи это.
— Бывает и не от пищи, — чуть улыбнувшись, замечает Шатров и обращается к Сомову: — Тренироваться и тренироваться, метать гранаты, рыть окопы, преодолевать проволочные заграждения.
Живем в землянках у самого моря. Здесь много войск. Для чего они сконцентрированы, нам, конечно, неизвестно. Одни утверждают, что будем десантом высаживаться на Керченский полуостров, другие поговаривают о создании резервной армии, которая якобы будет переброшена по воздуху для обороны Москвы.
Уже изрядно наскучила игра в перебежки, нет уж сил ковырять мерзлую землю. Наш ротный — непоседа. Мы называем его Будильником. Он не дает нам ни минуты покоя. Уметь быстро отрыть окоп — это, наверное, потребуется в бою, но, кроме этого, он заставил нас вчера четыре часа заниматься строевой подготовкой. Потом два километра мы бежали в противогазах. У Мухина открылась рана. От сильной боли он застонал и начал петлять, словно подстреленный заяц, но все же не остановился, достиг намеченного рубежа.
Вечером сидим в землянке. Потрескивают поленья в печурке. Кувалдин бреется, примостившись у коптилки, сделанной из снарядной гильзы. Бритва в его огромной руке кажется игрушечной. Глаза у Кувалдина спокойные, с поволокой. Но — странное дело — на его лице я никогда еще не видел следов усталости. Егор улыбается редко, скупо. Но когда улыбается, — черт возьми! — как бы тяжело ни было у тебя на душе, все проходит. Я беру газету и начинаю читать.
— Ну, что там, прет? — спрашивает Кувалдин. Он аккуратно вытирает бритву, кладет ее в футляр.
— Выдохнется, — отзывается Чупрахин.
Мы разговариваем короткими фразами. На душе у нас тревожно. Ходят слухи, что немцы заняли Ростов.
Мухин лежит в углу землянки. Он осунулся, побледнел.
Егор присаживается к нему, говорит:
— Алеша, есть у меня в дивизии знакомая девушка. Она дружит с одним хорошим врачом, который не выдаст твоей тайны.
— Надоел я вам, — грустно вздыхает Мухин. — Ничего вы не понимаете. — Он приподнимается и, сидя, долго смотрит в маленькое окошко землянки. — Помните, говорил, что у меня отец на фронте? Он погиб, ребята.
Кувалдин, набросив на плечи шинель, уходит. Через полчаса он возвращается с двумя девушками и обращается к нам:
— Товарищи, освободите на минуту помещение, доктор посмотрит, что за болячки на теле у Мухина.
Я задерживаюсь у выхода. "Аннушка, ты что же, не узнаешь меня?" — хочется крикнуть. Но Сергеенко стоит ко мне спиной, взяв Егора под руку. Так вот почему Кувалдин интересовался Аннушкой, он уже тогда знал, что она в нашей дивизии.
Захлопываю за собой дверь. Падает редкий снег. Бьются волны о берег. Темень. Ни звука. Кажется, нет никакой войны на земле, все, и мы, стоящие у входа в землянку, и немцы в Ростове, политрук, который каждый день рассказывает нам о тяжелых боях на подступах к Москве и Ленинграду, — сон; только стоит открыть глаза — все это исчезнет.
— Заходите, — приглашает Егор.
Занятый своими мыслями, не трогаюсь с места. Слышу голос Кувалдина:
— Я провожу, Аннушка.
— Не надо, Егор, — отвечает она и вскрикивает: — Ой, руку, медведь! Ладно, проводи.
Голоса удаляются, глохнут. Подходит Чупрахин.
— Видал, как наш Егор Васильевич околдовал радистку, — говорит он мне и тут же с наигранным пренебрежением заключает: — И что в ней хорошего, в блондинке? Зачем только таких на фронт берут?
— Вот как вы о девушках! — Это голос врача. Она подходит к нам незаметно. Бледный пучок света, идущего из землянки через полуоткрытую дверь, падает на ее лицо.
— А-а, доктор, — как бы извиняясь, обращается к ней Чупрахин. — Кажется, если не ошибаюсь, товарищ Крылова?
— Да, Маша Крылова, и тоже почти блондинка, — шутит она и грозит пахнущим лекарством пальцем. — Когда-нибудь ты мне попадешься в операционной, вот там и посмотрим, зачем нас берут на фронт, — с улыбкой добавляет Крылова и спешит догнать Егора с Аннушкой.
Иван шумит ей вслед:
— Уж я-то вам никогда не попадусь, запомните, моя фамилия Чупрахин.
Спускаемся в землянку.
— Коля, — радостным голосом встречает Мухин, — болячка моя пустяк, скоро пройдет.
Мы смотрим на него, и нам делается весело.
Приходит Егор, вслед за ним появляются Шапкин и Беленький. Раздеваясь, Захар сообщает:
— Завтра начнутся настоящие дела.
— Значит, решили? Под Ростов? — спрашивает Мухин.
— Нет, приступаем к регулярным занятиям.
— Академия! Значит, тетради, карандаши, двойки, тройки и прочие подъемы по расписанию? Люблю учиться! А гауптвахта будет?
— Для тебя и гауптвахта найдется, — строго посмотрев на Ивана, говорит Захар.
— А кто будет воевать? Тот старик, который в станице нас встречал? Интересная академия!
— Учиться всегда полезно, — роясь в вещевом мешке, замечает Беленький.
— Ученому море по колено, а неграмотный в луже утонет...
— Эх ты, философ в противогазе, — смеется Кувалдин. — Куда собираешься?
Беленький не без гордости отвечает.
— Командир роты просит помочь ему наладить ротную канцелярию.
— На повышение идешь? — вмешивается в разговор Чупрахин. — Валяй, оттуда, смотри, и в редакцию попадешь. Только не забывай своих друзей, что-нибудь напиши. А уж мы тут тебя прославим. Будем всем показывать твои статьи: смотрите, что наш Беленький сочинил!
Кирилл забрасывает мешок за спину, обращается к Ивану:
— Вот что я тебе скажу... Нет, ты послушай...
— Прорвало философа, спасайтесь! — кричит Чупрахин, дурашливо пряча голову под охапку соломы, — Уходи скорей, командир ждет...
— Отбой! — командует Шапкин.
Не спится.
— Алеша, ты не спишь?
— Нет, что-то жарко.
— Разговоры! — строго обрывает Шапкин. — Распарило, завтра не то скажешь.
...Утром после завтрака опять выходим в поле, метаем гранаты. Под вечер войска выстраиваются вдоль берега. Серая лента строя уходит далеко за выступ. На волнах покачиваются небольшие суденышки. Они приторочены к наспех сделанным причалам.
— Будем отрабатывать способ высадки на берег десанта, — коротко поясняет Сомов и ведет нас к высотке, приказывает окопаться.
Кувалдин первым отрывает окопчик. Он советует мне рубить землю под малым углом: так легче лопата входит в грунт. Смышленый этот Кувалдин.
Лейтенант, подобрав полы шинели и словно любуясь своим голосом, командует:
— Повзводно, первый, второй, за мной бегом, марш!
Бежим что есть силы. Вот и причал. Сомов одним махом первым взлетает на сейнер. Шапкин, оступившись, падает в воду. Кто-то пытается помочь ему выбраться на трап.
— Не задерживаться! — кричит лейтенант.
Но Шапкин уже на борту. Вздрагивает корпус судна. Опоздавший Мухин прыгает в воду, хватается за приклад винтовки, поданной ему Чупрахиным, с трудом взбирается на палубу. К нему подходит Сомов:
— Мухин?
— Мухин, товарищ лейтенант.
— Ловко взобрался! Молодец! На, закури, согреет. И вы, Чупрахин, молодец, помогли товарищу,
— На море я хозяин, товарищ лейтенант.
— Понимаю, кажется, с корабля, матрос?
— Матрос, — с грустью роняет Иван.
Сейнер уходит, в море. Холодный ветер пронизывает насквозь. Густым, крупным дождем летят на палубу брызги. Лейтенант курит и неотрывно наблюдает за берегом, лицо посинело, покрылось гусиной кожей. Что еще он готовит нам? Шапкин бегает по палубе, стараясь согреться. Егор, прикрыв собой от ветра Мухина, о чем-то сосредоточенно думает. Вспоминаю вчерашний его разговор с Сергеенко. "И Аннушка на войне", — вздыхаю я и, подойдя к Кувалдину, на ухо говорю ему:
— Ну как, медведь, проводил вчера?
— Черт! Откуда тебе известно?
— Сорока на хвосте принесла.
— Сам ты, ворон, подслушал! Узнал ее? Это же Сергеенко. Помнишь, в школе спрашивал о ней?
— Помню.
Сейнер круто разворачивается, ложится на обратный курс. Командир роты предупредительно поднимает руку!
— Внимание!
"Неужели сейчас прыгнет в воду?" — думаю я. Берег приближается. Сейнер резко стопорит.
— За мной, ур-ра-а-а! — с криком прыгает за борт Сомов.
— Ур-ра-а-а! — дружно подхватываем и спешим за лейтенантом. Холодные волны бьют в спину.
— Не задерживаться! — выскочив на берег, предупреждает Сомов. — — Быстрее! За мной! Ур-ра-а-а!
Мы бежим, не чувствуя под собой земли.
— Ложись! Окопаться! — приказывает Шапкин.
Рядом слышу голос Кувалдина:
— Дотошный лейтенант-то... Это хорошо, крепкого духа человек.
— Эх, братва! — звенит Чупрахин. — Пусть командует, лишь бы море гудело, а тетрадочки, карандашики не страшны. Ведь учиться всегда полезно, как сказал наш философ Кирилл-первый.
Темнота заполнила все пространство: и море, и землю, и воздух. Усталые и мокрые, строимся в колонну по четыре, идем к землянкам. На полпути роту останавливает Шатров.
— Ну как? — спрашивает у Сомова.
— Получается, товарищ подполковник.
— Завтра пришлите мне троих бойцов. Будут работать на передовом наблюдательном пункте.
Рядом, справа, слева и впереди, покачиваясь, плывут длинные колонны бойцов, слышится глухой топот бесчисленного множества ног. Это возвращаются с занятий соседние подразделения. Хотя до сих пор никто официально не сообщал о десанте на Керченский полуостров (вероятно, это держат в строгом секрете), но теперь каждый убежден: готовят войска именно для этого дела. Только, политрук еще продолжает упорствовать: "Не знаю, товарищи, и командир не знает, и вам советую поменьше думать и говорить об этом". А по глазам заметно, что он знает, да только, наверное, нельзя об этом говорить.
Землянка встречает сухим, перегретым воздухом. Круглая печурка превратилась в раскаленную тумбу, только что вынутую из горна: нажми металлическим стержнем — проткнешь насквозь.
При свете не шинели на нас, а тонкие ледяные панцири, причудливо искрящиеся всеми цветами радуги. Молча снимаем обмундирование, помогаем друг другу отодрать ушанки, примерзшие к волосам. Вскоре помещение наполняется густым паром, а мы в нижнем белье походим на рыб, плавающих в вертикальном положении, со странными головами и узкими длинными плавниками.
В таком же ледяном панцире появляется политрук. Ему уступают место у печки. Раздевшись, он угощает курящих сухим табаком, потом сообщает, что в штаб дивизии прибыл представитель Ставки Верховного Главнокомандования, что наши войска вступили в Ростов.
Забрасываем Правдина вопросами. Их у нас столько, что политруку хватит на всю жизнь отвечать. У Правдина слипаются глаза, голова клонится на грудь, голос становится глуше. Думали, что он железный, оказывается, устает, как и мы. Первым это замечает Чупрахин.
— Хватит, дайте человеку передохнуть.
Егор заботливо укрывает шинелью прикорнувшего политрука.
Приносят ужин. Громыхая котелками и ложками, причмокивая и перебрасываясь шутками, быстро опорожняем термосы и кастрюли. Размещаемся на свежей соломе. Поднимается Правдин. Он надевает полупросохшую шинель и, расчесав густые каштановые волосы, обращается к Шапкину:
— Не забудьте завтра к шести часам прислать к Шатрову Кувалдина, Самбурова и Чупрахина. А я сейчас пойду во второй взвод, у них сегодня ночные занятия: преодоление проволочных заграждений.
И, согнувшись, скрывается за дверью. Шапкин присаживается к печке. Он долго сидят неподвижно, о чем-то напряженно думает. Лицо его чуть-чуть подергивается нервной дрожью. Может быть, простудился? Хочется спросить: позвать врача?
Шапкин замечает, что я не сплю, подзывает к себе.
— Ну как? — спрашивает он. — Что же ты тогда не сказал, что по самолетам стрелял не я? Ты кому-нибудь говорил про это? Нет? Молодец. — Он сует мне в руки банку мясных консервов. — Возьми, земляк... Молод ты еще, но со мной не пропадешь.
Шапкин вдруг торопливо натягивает сапоги, надевает шинель и уходит. За окном надрывно стонет ветер. Просыпается Кувалдин. Поежившись, растапливает погасшую печурку.
— Ты немецкий язык знаешь? — спрашивает он меня. — Политрук вчера интересовался. Сомова назначают командиром разведроты и Правдина туда же забирают. Наш взвод якобы полностью перейдет в разведроту.
4
Идем вдоль берега. Сегодня на море тихо. Даже не верится, что где-то там, на противоположном берегу пролива, находится враг, а правее, к Ростову, идут бои. Огибаем выступ, и сразу открывается Керченский полуостров. Даль сглаживает обрывистые берега: они кажутся покатыми, темными, и весь клочок земли похож на огромную чугунную болванку, глубоко ушедшую в воду.
Чупрахин вполголоса говорит:
— Что-нибудь замечаешь? Посмотри, сколько тут наблюдательных пунктов.
Проходим тщательно замаскированные холмики с темными глазницами амбразур, обращенными в сторону Керчи. В одном месте откуда-то из-под земли появляется лейтенант с артиллерийскими эмблемами на петлицах. Он подходит к Шатрову, докладывает:
— Лейтенант Замков, старший передового артиллерийского наблюдательного пункта.
Опускаемся в небольшое углубление, прикрытое со стороны моря уплотненной подковообразной насыпью.
— Слушаю, — Шатров закуривает.
Замков, с широкими плечами и совсем короткими ногами, обутыми в хромовые, до блеска начищенные сапоги, разворачивает зеленоватую карту и неожиданно детским голосом докладывает:
— Сегодня в районе Еникале никакого движения не обнаружено. Уснули, что ли? Или чувствуют, что за ними наблюдают? Смотрим, смотрим, ну хотя бы один показался. Взять бы да и трахнуть из тяжелого дивизиона — зашевелились бы.
Шатров гасит папиросу о припудренную инеем землю.
— Дайте вашу карту.
С минуту он рассматривает какие-то непонятные для нас условные знаки, окаймляющие изогнутую линию берега. Лицо его хмурится, а шрам совсем подступает к уголку рта.
— Какое задание на сегодня?
— Наблюдать за берегом, засекать огневые точки.
— А вчера что делали?
— То же самое.
— Глубину полуострова изучаете? Командир полка рассказывал вам о промежуточных рубежах? Нет? Плохо. Вы что же, думаете только о высадке на берег? Нет, милейший лейтенант, высадиться на берег — это полдела; главное — удержать плацдарм, развить успех. А для этого надо хорошо знать, что делается в глубине обороны противника.
— Но я в этом не виноват, товарищ подполковник, — оправдывается Замков.
— Знаю, что вы не виноваты. Это я так, авансом, лейтенант, на будущее пожурил. — И, несколько подумав, продолжает: — Наш десант — дело нешуточное, товарищи. Таких десантов, как наш, и в такой сложной обстановке, кажется, еще никто не высаживал. Надо все взвесить, ко всему быть готовыми... Пошли, товарищи. А командиру дивизиона, Замков, все же передайте мои слова, — уже выйдя из укрытия, напоминает Шатров лейтенанту.
Передовой наблюдательный пункт — это квадратная землянка, обитая досками, пахнущими смолой. Посередине стол, на котором полевой телефон, конторская книга и большой жестяной чайник с водой. В потолке дыра, в которую пропущена труба перископа, а в стене узкая амбразура. Это помещение куда уютнее нашей землянки с вечными испарениями от портянок и обуви.
— Что в матросском кубрике, — довольный порядком, определяет Чупрахин.
Пользуясь тем, что Шатров задержался наверху, Кувалдин с видом знатока поясняет:
— По всем признакам, мы попали на наблюдательный пункт самого командира дивизии. Надо это иметь в виду, вести себя прилично...
— Не дети, без напоминаний соображаем, — парирует Чупрахин, беря со стола бинокль и устраиваясь у амбразуры.
Входит Шатров. Заметив Чупрахина с биноклем, он ледяным голосом говорит:
— Между прочим, войсковой разведчик отличается от остальных бойцов высокой дисциплинированностью и выдержкой. Положите прибор на место!
— Есть! — быстро отзывается Иван и вытягивается перед подполковником в струнку, но выражение лица остается прежним: вот-вот он произнесет то, от чего самая строгая душа отойдет, потеплеет.
Шатров проходит к столу:
— Прошу слушать внимательно. Вот журнал наблюдений, — берет он со стола серую книгу. — Здесь есть графы: первая графа — в ней отмечается время обнаружения объекта, вторая графа — район, место обнаружения объекта, третья — что конкретно замечено: живая сила, огневая точка или транспорт, и четвертая графа — выводы наблюдателя, ваши предположения и заключения. Ясно? Какие будут вопросы? Нет? Прошу посмотреть журнал.
Склоняемся над книгой, листаем и искоса посматриваем на Шатрова, стоящего у стереотрубы.
— С оптическими приборами умеете обращаться?
— Изучали, — хором отвечаем Шатрову. — Командир показывал.
— Хорошо. Вы, товарищ Кувалдин, наблюдайте в стереотрубу. Объект наблюдения — южная часть крепости Еникале. Вы, товарищ Чупрахин, — в бинокль через амбразуру, объект наблюдения — северная часть крепости. Журнал ведет Самбуров. Обо всем замеченном докладывайте Самбурову. Вот вам часы, — он подает их мне и распоряжается: — По местам!
— Время! — пушечным выстрелом гремит Кувалдин. От неожиданности подпрыгиваю, дрожащей рукой стараюсь попасть в нужную графу, докладываю:
— Десять часов тридцать пять минут.
— Южнее поселка тридцать метров, — продолжает Егор, — группа солдат во главе с офицером. Производят оборонительные работы.
Подполковник выхватывает изо рта трубку и, оттолкнув Кувалдина, припадает к окуляру стереотрубы. Минуту он топчется на месте, потом уступает место Егору:
— Продолжай наблюдать, начало хорошее: — И подходит ко мне. — Записали? Четче ведите журнал, не торопитесь.
Он садится у входа. Вновь наступает тишина. Но теперь она уже не томительная, какой казалась в начале работы, И журнал кажется не таким сложным. Теперь даже можно немного помечтать. Сколько сейчас таких, как мы, наблюдают за противником! День и ночь непрерывно они следят за врагом, регистрируют малейшее движение, замеченное на той стороне. И все это где-то в большом штабе суммируется, обобщается, наносится на карты, делаются выводы, предположения, намечаются планы. Сколько людей готовят эту трудную десантную операцию! И в Москве, наверное, сейчас кто-то занят нашим делом: может быть, так же вот, как и мы тут, ночи не спит — думает, планирует, с тревогой и надеждой дает указания, получает сведения с южного крыла гигантского фронта.
— Бурса! — вдруг кричит мне Чупрахин. — Запиши: сволочи тянут на тракторе какое-то большое белое колесо. Не иначе как дот оборудуют у самого мыса. Запиши, чего смотришь?
Шатров поднимается. Его лицо делается бурым, потом неожиданно для нас подполковник улыбается.
— Кто же так докладывает? Четкости нет.
— Четкости? — еще находясь в первоначальном возбуждении, переспрашивает Иван. — А суть, самую суть доложил?
— Суть-то понятна. Дайте бинокль... Та-ак, правильно схвачено. Разведчику нельзя ошибаться. — Он достает из планшета карту и синим карандашом наносит условный знак. — Об этом надо доложить артиллеристам, они возьмут эту огневую точку на учет, — поясняет он нам.
Видимо довольный нашей работой, Шатров теперь стал более разговорчив. Он рассказывает о проливе, о рельефе прибрежной части полуострова, о крутых, скалистых берегах. Потом узнаем, что подполковник до войны служил в Бакинском пехотном училище, в начале войны командовал стрелковым полком в Крыму, оборонял Керчь и последним переправился через пролив на плоту, построенном из кузова автомашины и колес. Плот отнесло в море, и Шатров пять дней болтался там, пока его не подобрал наш сторожевой катер. Затем полмесяца он пролежал в госпитале и вот снова на фронте.
В блиндаж входит командир дивизии полковник Хижняков. За ним, осторожно отсчитывая ступеньки, спускается генерал, сопровождаемый двумя офицерами. Шатров сразу принимает прежний официальный вид и с достоинством докладывает генералу:
— Товарищ командующий, подполковник Шатров, начальник разведки дивизии. Ведем наблюдение за районом крепости Еникале, Замечены оборонительные работы и движения мелких групп противника.
Командующий, с воспаленными глазами, гладко выбритым лицом, подает Шатрову руку:
— Добро, добро... — И обращается к командиру дивизии, застывшему у стола в положении "смирно": — Видать, Хижняков, твои глаза хорошо работают. Но успокаиваться на этом нельзя. Наблюдать и наблюдать...
Он устало опускается на поданную лейтенантом табуретку и, видимо вспомнив прерванный по дороге разговор, несколько оживляется:
— Вчера поспорили с представителем Главного командования. Собственно, спора, как такового, не было. Он говорил, я слушал. Он, как и ты, Хижняков, утверждает, несмотря на сложность высадки десанта, все же основная трудность операции заключается в развитии успеха, в организации безостановочного продвижения наших войск в район Перекопа и затем в оказании помощи севастопольской армии. Конечно, бой в глубине обороны противника будет нелегким. Но я придерживаюсь другого мнения. Успешно высадим войска — и дальше у нас пойдут дела хорошо. Поэтому требую: изучать и изучать прибрежную часть полуострова, все внимание — высадке десанта. Надо вначале перепрыгнуть, а потом говорить "гоп".
— Это верно, товарищ командующий. Но можно перепрыгнуть и не сказать "гоп": ноги подломятся, застрянешь на плацдарме, а противник тем временем оправится от удара.
— Мрачные картины. — Генерал говорит тихо, медленно. Его глаза то загораются, то, блекнут. Мы, затаив дыхание, с любопытством рассматриваем командующего. Я впервые вижу настоящего генерала, и не в кино, а рядом: простой, самый обыкновенный человек. Его медленные движения, тихая, неторопливая речь вызывают симпатию к нему. Только непонятно, почему упорствует командир дивизии, что ему стоит согласиться с этим усталым человеком: ведь он командующий, все знает и, конечно, не может ошибиться.
— Вам известны данные авиаразведки? — чуть склонив на сторону голову, спрашивает генерал.
— Да, начальник штаба знакомил. По ним можно предположить, что гитлеровцы не ожидают нашего десанта.
— Вот, вот, — продолжает командующий. — Значит, главное — вцепиться в прибрежную часть, перепрыгнуть через пролив. А там нас никто не задержит. Для большей уверенности в успехе операции я приказал сразу же вслед за передовыми частями перебрасывать войсковые тылы. Имейте это в виду.
Генерал поднимается и с минуту смотрит на Шатрова.
— А вы что скажете?
— Товарищ командующий, мы готовы выполнить любой приказ. Но вот данные авиаразведки, на мой взгляд, как раз говорят о том, чтобы мы здесь больше уделяли внимания бою в глубине обороны немцев, организации взаимодействия, чтобы потом меньше тратить времени на эти вопросы...
— Ух какие вы тут стратеги! — повышает голос, генерал, и на его лице появляется снисходительная улыбка. — Дайте-ка бинокль.
Чупрахин освобождает место у амбразуры. Командующий припадает к глазнице и, согнувшись, тем же спокойным, неторопливым голосом продолжает?
— Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Обзор хороший... Да, а на Шипке затишье. Или они хитрят, или действительно не подозревают об угрозе. А что вы скажете, товарищ красноармеец? — спрашивает командующий у Чупрахина.
— Скажу вам, товарищ генерал, наше дело — бить врага, так сказать, разминировать, обезвреживать его, — одним духом выпаливает Чупрахин, и, посмотрев на Шатрова, добавляет! — Скорее бы туда, а наблюдениями их не запугаешь.
— А не страшно через пролив да на такие кручи карабкаться против огня?
— Страшно бывает только кассиру, когда он берет казенные деньги. А мы, бойцы, идем освобождать свою землю. Может быть, кому и страшно, не без этого. Но я так понимаю, товарищ командующий, страх живет одну минуту, а смелость всегда при человеке.
— Орел! Молодец! — генерал вынимает платок и вытирает увлажнившиеся глаза. — Пойдемте, Хижняков. — Он направляется к выходу, приглашая с собой и подполковника Шатрова, который на ходу бросает нам:
— Вечером вас сменят. Обо всем замеченном доложите командиру взвода, а он пусть передаст Сомову.
— Ну что? — как только мы остались одни, спрашивает Чупрахин. — Поняли? Все уже готово. Скоро будем в Крыму. А насчет Москвы — это болтовня, Егорка. Никуда нас не пошлют, тут будем молотить фашистов.
Кувалдин отвечает:
— Для меня, Иван, Москва всюду, не только там, в Москве. Понял?
— Очень даже. Не один ты так думаешь.
С наступлением темноты покидаем наблюдательный пункт, идем не берегом, а прямо, кратчайшим путем. Местность — сплошной муравейник: то там, то здесь слышатся команды, топот ног, глухие удары саперных лопат о мерзлый грунт, проходят взводы, роты, производятся тренировочные посадки на катера и баржи. Пролетает вражеский самолет. Кругом все замирает, и тотчас же в стороне, километрах в полутора от берега, вспыхивает яркий шар осветительной ракеты, сброшенной на парашюте фашистским летчиком. В мирное время можно было бы и полюбоваться этим висящим в небе пучком света. Но сейчас он кажется зловещим, холодным светящимся пауком с вытянутым брюхом.
В землянке застаем одного Шапкина, сидящего с газетой в руке возле фонаря. Заметив нас, он поднимается и кладет раскрытую газету на вещевой мешок. Кувалдин докладывает о результатах наблюдения.
— Значит, все-таки они там барахтаются, — выслушав Егора, произносит Шапкин. Его бесцветные, реденькие брови смыкаются у переносья, а плечи поднимаются кверху. — Не понимаю! Откуда вы взяли такие данные? Ведь немцы совершенно не подозревают о десанте. Проверю, возможно, рыбаков приняли за фашистов. В термосе ваш обед, я пошел к командиру роты.
Беру газету. Внимание привлекает заголовок "По фашистскому самолету из ручного пулемета". Читаю вслух:
— "Рота совершала марш. Неожиданно в воздухе появились вражеские самолеты. Командир отделения Захар Шапкин, пренебрегая смертельной опасностью, смело открыл из ручного пулемета уничтожающий огонь по воздушному врагу. Вокруг рвались бомбы. Но мужественный боец продолжал единоборство с фашистскими стервятниками да тех пор, пока самолеты врага не были отогнаны. Командир роты объявил Шапкину благодарность. А недавно за новые ратные дела Шапкина назначили командовать взводом. Однополчане горячо поздравили мужественного бойца и пожелали новых славных боевых дел.
Красноармеец К. Беленький".
— Написал все же, — говорит Кувалдин. — Надо поздравить старшего сержанта.
— Обязательно, — соглашается Чупрахин, открывая термос с горячими пахучими щами.
Вбегает Беленький. Он шепотом сообщает!
— Только вам, по секрету, смотрите — никому... Через два дня в бой, туда, — он показывает на оконце и тянет; — Де-ла-а! Пришла пора желанная, пришла...
— Писать будешь о нас? — спокойно, без тени иронии спрашивает Чупрахин, набивая рот гречневой кашей. — Пиши, Кирилка, пиши. Ты теперь там, в верхах, при командире, тебе виднее...
— Да нет, товарищи, — поясняет Беленький. — Я же, как и все, пойду вместе со взводом. В штабе временно работал. Оно, конечно, — переходит на шепот. — С одной стороны, если бы кто-нибудь из вас сказал политруку обо мне: так, мол, и так, газетчик; с другой стороны, нельзя ли его как-то зачислить ну, скажем, в медсанбат, пусть освещает нашу боевую жизнь. А самому неудобно об этом говорить.
— Конечно, — соглашается Чупрахин и трясет газетой. — Читали, как ты тут о взводном написал. Радуйся, философ, в люди выходишь. И выйдешь, если тебя волной с палубы не сшибет.
— Так бывает? — интересуется Беленький. — Нет, серьезно, Иван? Я никогда не бывал на море. Первый раз в жизни придется...
За окном поднимается ветер. Он гудит протяжно, с надрывом. Чупрахин успокаивает Беленького:
— Ничего, Кирилка, море как море. Перепрыгнешь. Только зайцы боятся воды.
5
Завтра во взаимодействии с моряками Черноморского флота и Азовской флотилии пойдем на штурм Керченского полуострова. Только что закончилось открытое партийное собрание. В нашей разведроте — восемь коммунистов и пятнадцать комсомольцев. Почти все выступили в прениях. Чупрахин говорил, что он будет разминировать фрицев аккуратно, без лишнего шума, но так, что от страха закрутятся в гробу ихние большие и маленькие фридрихи и кайзеры, а Гитлера по этой же причине хватит падучая болезнь.
Кувалдин, как всегда, был немногословен. Теребя в руках шапку, он пробасил:
— Как командир первого отделения приказываю всем быть в первых рядах. А остальное я доскажу в бою автоматом и гранатой. Фашист, он такой язык понимает лучше.
С подъемом произнес речь Беленький. Говорил он долго, делая большие отступления "в глубь веков". От усердия у него нос покрылся обильным потом. Закончил призывом бить германца по-шапкински, не зная страха. Сам Шапкин не выступал. Он только с места заявил:
— Я человек беспартийный. Но свой голос присоединяю к словам коммунистов и комсомольцев.
Решение было коротким. Его зачитал политрук:
— "Мы, коммунисты и комсомольцы, бойцы и командиры разведроты, заверяем советский народ, родную партию в том, что без страха и колебания идем на штурм Керченского полуострова и, чего бы это нам ни стоило, с честью будем сражаться за полное освобождение советского солнечного Крыма от фашистской оккупации. Всем коммунистам и комсомольцам быть в первых рядах, штыком, огнем автомата и гранатой бить гитлеровцев до полного разгрома. В бою поддерживать друг друга, не оставлять в беде товарища".
Потом пели "Интернационал". Его подхватила в стороне соседняя рота. И песня покатилась по всей окрестности. Пели артиллеристы, саперы, моряки, танкисты, пели авиаторы в капонирах полевого аэродрома.
Звуки гимна и сейчас еще продолжают звучать в ушах. Беленький готовит корреспонденцию о прошедшем собрании. Кирилл уже не раз бегал к политруку, и, кажется, Правдин сказал ему: "Пиши — отошлем". Теперь Беленький всем нам не дает покоя: требует, чтобы выслушали начало, или, как он говорит, запевку к статье. Это начало он дополняет и изменяет через каждую минуту и сразу же после этого просит послушать. Больше всех достается Егору: он коммунист, и ему нельзя отказать в просьбе Беленькому, но Кувалдин на слова удивительно туг, ему легче отрыть окоп в полный профиль, чем на глазах у людей произнести десяток слов.
Кирилл хватается за голову и начинает отчаянно тереть виски. Он всегда так делает перед чтением своих корреспонденции. Кое-кто пытается выскочить из землянки. Но Беленький спешит загородить собой выход:
— Товарищи, дело общественное, я, собственно, для вас же стараюсь.
— Ведь слышали же! — говорит Мухин. Беленький уходит. Мухин тут же начинает вспоминать, как первый раз прыгнул с причала в воду и удивился: очень холодная.
— Неженка! — режет Чупрахин. — Лично я с детства привычный к холодной воде. Когда мне было двенадцать лет, один дружок посоветовал обливаться холодной водой. Говорит: "Ты, Ванька, хилый, полезай в колодец и закаляй организм". — "Как же туда полезу?" — спрашиваю. Отвечает: "Пара пустяков! Садись в ведро, я тебя спущу". Согласился, дурак. Дело было вечером. Опустил и кричит: "Ванька, поболтайся там маленько, я отнесу воды домой!" Понес и забыл про меня, подлец. Сижу, совсем окоченел. И кричать боюсь — отец выпорет. И сам выбраться не могу. "Ну, думаю, пропала моя организма!" К счастью, в это время у колодца остановились старик со старухой лошадей напоить. Опустили ведро. Я, конечно, сел в него и молча держусь за цепь, боюсь слово произнести: как бы дед с испугу вновь не окунул. Только начал приближаться к срубу, как прыгну — и уцепился за край сруба. Старик как заорет: "Свят, свят, свят! Водяной!" Старуха — в обморок. Кони рванули в сторону. Беда-а...
— И ты проснулся? — замечает кто-то.
— Это правда. Потом отец так закалил мне ремнем одно место, что месяц не мог сесть. Ел стоя.
Бойцы смеются. Чупрахин, довольный своим рассказом, хитровато улыбается, поглядывая по сторонам. В землянку заходят Шатров и Сомов.
— Весело живете! — говорит подполковник и обводит строгим взглядом, кажется, вот-вот с его уст слетит команда. Он строен, подтянут, будто собрался на парад и забежал что-то сообщить нам.
Иван уступает Шатрову место у печки:
— Погрейтесь, товарищ подполковник.
— Спасибо. Не замерз. Скажите, кто из вас в Крыму бывал?
Поднимается Шапкин:
— Я.
— Где и когда?
— В поселке Владиславовка. Родился там, но жить почти не жил. Мальчонкой уехал оттуда в Ростовскую область.
— Это и у меня бабушка родилась в Багерово, — хихикает Чупрахин, держа в руках полено.
— Шутки неуместны! — поворачивается к нему Сомов. — А вы, товарищ Мухин, где жили? — спрашивает лейтенант Алексея.
— В Развильном, что под Сальском.
— Значит, никто из вас не жил на Керченском полуострове? — продолжает, подполковник.
Он прикалывает к стенке газету, на которой красным карандашом аккуратно вычерчена карта полуострова.
— Смотрите сюда. Это, — говорит он, показывая карандашом на черные кружочки, — населенный пункт Мама-Русская, это мыс Зюк, мыс Тархан, мыс Хрони, это крепость Еникале, город Керчь и южнее населенный пункт Камыш-Бурун... А вот здесь Аджимушкайские катакомбы.
Рассказав о населенных пунктах, прибрежных высотках, подробно охарактеризовав место высадки дивизии, нашей роты, он заключает:
— Запомните, все это пригодится. — И, повернувшись к Сомову, спрашивает: — Водку сегодня получали?
— Получали. Но все берегут, чтобы в море погреться.
— А закусить у вас есть чем?
— Найдется! — отвечаем хором.
— Тогда будем веселиться, что же скучать.
На импровизированном столике вырастает гора консервных банок, хлеба, сухарей, появляются кружки, раскрытые фляги.
— А за что же, товарищ подполковник, выпьем? — спрашивает Шапкин.
— За нашу победу! — звенит Чупрахин. — Что тут спрашивать! Помнится мне один случай...
— Погоди трещать, — останавливает его Кувалдин.
— Нет, товарищи, за нашу победу мы выпьем потом. А сейчас — за знакомство! Ведь мы как следует не знаем друг друга, a знать нам надо: в бой идем, не на вечеринку. Выпьем и поговорим.
Выпиваем: по сто граммов. Сомов закуривает:
— Зовут меня Сергеем, величать не обязательно. Мне двадцать пять лет, окончил Тамбовское пехотное училище. В боях был мало, но был. Родом я из Воронежа. Характер у меня жесткий, люблю дисциплину, воинский порядок. Но в этом я не виноват, так воспитали в училище. Предоставим слово, товарищ подполковник, командиру взвода Шапкину.
Захар поднимается, брови смыкаются в переносье, в глазах суровый блеск.
— Начну с хасанских боев, — будто рапортуя, говорит он. — Мы это, значит, на них в штыки, а японцы-то маленькие...
— Погоди, погоди, — останавливает его Шатров. — Родились вы где?
— В станице...
— Как в станице? Говорили же, в Крыму, во Владиславовке.
— Правильно, во Владиславовке. Жил в станице...
Шатров смеется, смеемся и мы. Растерявшийся Шапкин сильнее хмурит брови и кое-как заканчивает рассказ, поглядывая в мою сторону, будто просит, чтобы я подтвердил.
— Он мой земляк, — наконец отзываюсь, чтобы успокоить Захара.
— А вы что скажете? — обращается Сомов к Чупрахину, рассматривающему пустую кружку.
— Маловато, товарищ лейтенант, еще бы по махонькой: градусов для красноречия не хватает. Но если нельзя, тогда я так, без красноречия, как могу... По рассказам моего дедушки, родился я в городе Каменске. Ну, первым делом назвали Иваном в честь деда. Тут и революция совершилась. Опять же как было дело с моим крещением? Когда выздоровела мать — она после родов легла в больницу — спросила отца: "Крестил?" — "Нет, говорит, теперь Советская власть, можно и без попа обойтись. Ванюшкой назвали". Вот вы смеетесь, а мне тогда было не до смеха, так как между родителями возникли настоящие военные действия.
— Остановить бы, опять его прорвало, — наклоняется ко мне Кувалдин.
— Пусть выскажется.
— Врет же он, — сокрушается Егор, потом смеется вместе со всеми.
— Мать говорит: "Нехристей в семье не должно быть. Это надругание над верой христианской", — воспользовавшись одобрительным взглядом Шатрова, продолжает Чупрахин. — Отец стоит на своем: "Дура, говорит, что ты смыслишь в этой вере!" — "А то, — говорит мать, — что у нехристей не растут на голове волосья. Какой девке полюбится плешивый парень?" Дед потушил пожар. "Вот что, говорит, аники-воины, окрестим мы его дома, купим у горшечников трехведерный кувшин и с богом обряд совершим". Так как деда в семье считали человеком рассудительным, согласились. Купили огромный кувшин, макитрой у нас называется, наполнили водой. Дед вооружился какой-то книжкой, потом выяснилось, что это был учебник по арифметике, прочитал молитву. Ну, значит, бултых меня в эту посудину: расти Иваном. Так что я — дважды Иван. Это надо бы знать фашистам! — вдруг сурово восклицает Чупрахин.
— Узнают, — в тон ему отзывается Шапкин.
— А дальше моя биография неинтересная, — разводит руками Иван. — Кончил ФЗУ, служил на флоте, там и в комсомол приняли. До армии работал на транспорте, в ростовском депо. За хорошую работу премию получал. Был со мной такой интересный случай... Маленько к наркому на чай не попал. Приезжаю в Москву, а там в наркомате выяснили, что нарком другого Чупрахина приглашал... Море люблю... Это вам, наверное, неинтересно, — опуская голову на грудь, тихо заключает Иван.
Рассказываем о себе часа полтора. Шатров слушает внимательно, кое-что записывает.
— А кто из вас поет? — интересуется подполковник.
— Мухин, — отвечает Сомов и обращается к Алексею: — Спой, Леша. — Лейтенант кладет на его плечо руку. Вижу на руке лейтенанта, выше кисти, синий шов недавно зарубцевавшейся раны.
Грудь Мухина поднимается, и с его почти детских, обветренных губ начинает литься ровная песня. Вначале тихо, потом все громче и громче. Щеки Алексея вспыхивают нежным румянцем. У Мухина приятный, звонкий и чистый тенор.
Мухин обрывает песню. Несколько минут в землянке стоит тишина. Шатров застегивает шинель, говорит:
— Да-а, подходяще спето!.. Хорошие люди у тебя, Сомов.
— Леша, спой "Варяга", — вдруг просит Иван.
— Хватит, товарищи, отдыхайте, — распоряжается Шатров и уходит вместе с Сомовым.
А мы никак не можем освободиться от мыслей, навеянных песней. Все куда-то исчезает. Передо мной степь... Далеко, где чистое небо сливается с землей, идут тракторы. Тянется широкая лента пашни. Зябь мягкая, пушистая, как сдоба, — так и хочется потрогать ее, взять в горсть, растереть на ладони и вдыхать сыроватый, отдающий перегноем запах. Прошли теплые осенние дожди. Степь бурно зеленеет. Ожил мятлик, покрываясь свежим зеленым ворсом. Ярко краснеют морозоустойчивые солянки. Придет первый мороз и своей неумолимой рукой оторвет их от земли и бросит на потеху ветру, который соединит солянки в большие шары и погонит по степным просторам до первого оврага или зеленого заслона, где они найдут свой вечный покой.
Люблю осеннее поле! С первыми ночными заморозками над степью пролетают птицы. Высоко в небе черными треугольниками плывут журавли. А воздух до того прозрачен, до того чист и целебен, что чувствуешь, как наливаешься силами. Забываются все мелочи жизни, и перед тобой только она, богатая, необъятная, сильная и вечно молодая наша земля!
С шумом врывается Беленький:
— Товарищ командир взвода! Сомов приказал выходить и строиться — перед посадкой на корабли митинг будет.
— Одеться и проверить оружие! — командует Шапкин.
Осматриваем винтовки, гранатные сумки, противогазы. Захар предупреждает, чтобы у каждого в брючном кармане имелся медальон с адресом и фамилией. Медальон предназначен на случай гибели, чтобы потом можно было опознать и сообщить родственникам по указанному адресу. С легкого словца Чупрахина этот черный резервуарчик бойцы называют "пропуском в рай". Иван, отвинтив крышку медальона, с озабоченным видом набивает его табаком, старается засунуть туда пару спичек и кусочек терки. Проделав эту операцию, он подмигивает Егору:
— Соображать надо, в море идем.
Выходим на улицу. Вечереет. Грохот штормового моря заглушает наши голоса. Будто пьяные, пляшут на волнах сейнеры. Они кажутся маленькими, как спичечные коробки, брошенные в огромный водоворот. Войска выстраиваются большим четырехугольником вокруг стоящего посредине грузового автомобиля. На машину поднимаются командир дивизии, комиссар и Шатров, одетый в белый полушубок.
Митинг открывает комиссар дивизии. Голос у него простужен, хрипловат. Положив руку на кобуру маузера, он говорит о священной мести врагу, о том, что настал решительный час ударов по гитлеровским захватчикам, что Красная Армия развивает наступление под Москвой, освобожден Ростов, враг отступает на запад.
Стоим неподвижно. Глаза наполнены радостным блеском. Лица у всех строгие, руки сжимают оружие. "Наконец-то, наконец-то, — стучит сердце, — заговорила и наша сила..."
— Нам выпала честь первыми нанести удар по врагу здесь, на левом фланге великого фронта, в районе Керченского полуострова. Клянемся, что преодолеем все трудности и точно выполним приказ Родины! — поднимаясь на носках, рубит рукой воздух комиссар дивизии.
— Клянемся!
— Клянемся!
"Клянемся!" — вся земля вместе с нами произносит это слово, заглушая тяжелый шум волн.
— Согласно боевым расчетам, по кораблям! — приказывает командир дивизии.
Живой черный квадрат раскалывается. Сомов ведет нас к причалу. Высокая волна с рокотом бросается под ноги.
6
Темная ночь. Упругий, порывистый ветер силится сбросить с палубы. Сейнер то взлетает, то, срываясь с высоты, долго летит в пропасть. Кажется, не плывем, а болтаемся в воздухе, проделывая головокружительные петли.
"Бьются два мира, бьются насмерть, — про себя повторяю слова Шатрова, как-то услышанные от него на наблюдательном пункте. — Мы верим в нашу победу, потому что ведем справедливую, освободительную войну. Сегодня фашисты в экстазе от успехов, но завтра они рухнут..."
— О чем задумался? — спрашивает Егор, дыша мне в ухо.
— О победе.
— Ты что, адмирал? — вступает в разговор Чупрахин. — Вот удивительно: в такую маленькую головенку, а какая мыслища забрела! Слыхал, Кирилл, о чем речь идет?
Беленький, ухватившись за перила, стоит на коленях. Ему, как и некоторым другим, не до разговоров. Качка начисто опорожнила его желудок, и теперь он при очередном приступе тошноты только мычит, ухватившись за леера.
Порывы ветра делаются резче. Волны кажутся белогривыми львами. Вот они, оскалив пасть, большими скачками несутся навстречу судну. Мгновение — и как щепку швыряет сейнер. Отряхиваемся от воды, жадно глотаем воздух и только успеваем раскрыть глаза, как с прежним ревом обрушивается на нас очередная волна.
Словно молодая необъезженная лошадь, упрямится баржа, прикрепленная к корме сейнера длинным тросом. Она то встает на дыбы, то вдруг шарахается в сторону, зарываясь в кудлатые волны. Надрывно, жалобно стонет буксирный трос.
— Не выдержит, оборвется, — опасается Мухин.
— А ты думай: выдержит, — отзывается Кувалдин.
— Да ведь как треплет!
— Все одно... лопаться тросу нельзя.
На барже среди бойцов второго взвода находится Аннушка. Спрашиваю Кувалдина, где и когда познакомился он с Сергеенко. На мой вопрос Егор раздраженно кричит:
— Нашел время спрашивать!
— Смотрите!
— Трос лопнул!
Налетают очередные волны. Баржа, как подбитая птица, то исчезает, то вновь появляется на поверхности.
— Пронеси, — слышится чей-то голос.
— Я те спаникую! — кричит Чупрахин. — Пехота!
— Надо бы, товарищ лейтенант, помочь, — умоляет Кувалдин Сомова, подошедшего к нам.
— Разрешите, прыгну за тросом? — сбрасывая шинель, обращается к командиру роты Иван.
— Приготовиться к высадке! — не слушая Чупрахина, командует Сомов.
Навстречу из мрака выплывает берег. Лейтенант выхватывает из сумки ракетницу и дает сигнал для высадки.
Содрогается воздух. Это открыли огонь корабли, прикрывающие десант. С тяжелым, надсадным кряканьем рвутся снаряды, окантовывая желто-красным поясом выступ полуострова.
Метрах в ста левее, освещенная заревом разрывов, беспомощно раскачивается на волнах буксирная баржа.
Кричу Егору:
— Смотри, их гонит к берегу!
— Вижу!
Но в это время баржа, высоко поднятая на волнах, тяжело кренится на борт. И сразу вокруг нее, будто брошенная горсть семечек, заколыхались на воде черные точки бойцов.
Сейнер резко стопорит. По коленям хлещут волны. Справа и слева, вровень с нами, останавливаются другие корабли.
— За Родину! Вперед! Урр-а-а! — что есть силы кричит Сомов и скрывается за бортом.
— Урр-а-а! — подхватывает клич Чупрахин и прыгает вслед за лейтенантом.
— Вперед! — призывает Егор, борясь с отливными волнами, которые, ударяя в грудь, стремятся отбросить его назад.
В воде сталкиваюсь с лейтенантом Замковым. Он, чертыхаясь, кричит на артиллеристов, выкатывающих противотанковое орудие на берег. Замечаю Правдина. Он переправляется с третьим взводом. У него в одной руке пистолет, в другой граната.
— Шапкин, бери правее! — командует политрук.
— Черт возьми, уперлись в отвесную кручу! — поглядывая по сторонам, сердито отзывается Захар.
Чупрахин прыгает в сторону, бежит вдоль обрыва:
— За мной, братва, здесь выход!
Устремляемся вслед за Иваном. Неожиданно на пути вырастает пулемет противника. Падаем между камней. Пули звонко секут скалы. Егор поворачивается к Шапкину:
— Надо убрать этого гада. Разрешите?
— Погоди...
— Что "погоди"! — возражает Чупрахин, ерзая на животе. — Пошли, Егорка, линия одна — вперед! — поднимается он.
Ползем к проходу. Одна за другой рвутся гранаты. Карабкаясь по скалам, преодолевая кручи, наконец достигаем небольшого плато. Впереди виднеется населенный пункт. Оттуда бьют немецкие минометы. Мины падают почти рядом. Их разрывы похожи на тявканье молодых собак. Снова вижу политрука. У него на левом рукаве пятна крови.
— Кто здесь коммунисты? — громко спрашивает он залегших бойцов.
— Все мы сейчас коммунисты. Я коммунист, — быстро орудуя саперной лопатой, отвечает Кувалдин.
— А я комсомолец, матрос, — кричит Чупрахин, продолжая наблюдать за поселком.
К политруку, запыхавшись, подбегает Беленький:
— Товарищ политрук, командир роты тяжело ранен, не может встать.
— Приготовиться к атаке! — раздается голос политрука. — Я командир, слушай мою команду!
Из-за скалы артиллеристы выкатывают орудие. Замков подбегает к Правдину.
— Сейчас поможем, — говорит он и тут же подает команду расчету: — Огонь!
— В атаку! — зовет Правдин и, согнувшись, бросается вперед. В правой руке он держит автомат и стреляет на ходу.
Догоняю политрука. Чувствую, что он задыхается. Рядом замечаю Кувалдина и Чупрахина. Стараюсь не отстать от них.
— Урра-а! — басовито кричит Кувалдин.
Десятки голосов подхватывают призывный клич. Кто-то, сраженный пулей, падает справа, слева, впереди... Но остановиться уже нельзя: до вражеской траншеи не более двадцати метров. Отчетливо видны перекошенные лица гитлеровцев.
— Урра-а!..
— Аа-аа-аа, — откликается на флангах.
— Аа-аа-аа, — напрягаю голос и прыгаю через траншею.
Кто-то хватает меня за ногу. Падаю, повернувшись назад, вижу: бледный, с оскаленным ртом фашист. Пытаюсь вырваться. На помощь подбегает Мухин. Он бьет гитлеровца прикладом по голове.
Поле боя уже не оглашается сплошным гулом. "Ура" гремит лишь в местах, где немцы еще оказывают сопротивление.
— Не останавливаться! — предупреждает политрук. — Выходить на западную окраину поселка. — У Правдина черное лицо, раненая рука лежит на груди, подвязанная поясным ремнем. Без шинели, в ватной телогрейке, он кажется еще выше.
Залегаем у каменной ограды. Наступает затишье. Вдруг с крыши дома ударил автомат. Пытаемся определить направление огня. Шапкин приказывает мне узнать, кто это стреляет. Делаю несколько коротких бросков — и вдруг с крыши падает на мерзлую землю фашист.
— Ха-ха-ха, — кто-то хохочет вверху. — Не бойся, он обезвреженный.
Задираю голову: Чупрахин прилаживает к коньку крыши кусок кумача. Вражеская мина рвется за оградой.
— Ишь как злятся, цвет им не нравится. Водрузив флаг, Иван спрыгивает на землю.
— Воюем! — говорит он. — Знамя-то развевается... Красное, наше, советское.
Из окошка подвала выглядывает стриженая головка мальчика.
— Дяденька, теперь можно? — спрашивает паренек Чупрахина.
— Теперь вылезай, — отвечает Иван и протягивает руку, помогая мальчишке выбраться из подвала. Мальчик по-взрослому докладывает Чупрахину:
— Геннадий Захарченко, разведчик из катакомб.
Иван тащит его за угол, в безопасное место, и рассказывает мне:
— Подполз к дому, вижу: из подвала смотрит на меня эдакая симпатичная рожица и серьезно предлагает мне свою помощь. Сиди, говорю, там, без тебя управлюсь. Ты как же сюда попал? — спрашивает Иван у Геннадия.
— Я из катакомб. Ночью ходил в село за картошкой, а когда возвращался, фашисты взорвали вход в каменоломни. Наши, конечно, там погибли. Пришлось обратно в село идти. Спрятался в подвале. Пять дней сидел... И тут вы пришли. Возьмите меня с собой. Я здесь все тропы знаю, умею стрелять из автомата. Возьмите, не пожалеете. У меня даже граната есть, — похвастал вдруг он и достал из кармана завернутую в тряпицу лимонку. — Настоящая, только нет запала.
— Нет, хлопец, останешься здесь. Вот тебе дом, и хозяйничай в нем, — решительно возражает Чупрахин и отводит мальчика в подвал.
Политрук вновь поднимает роту в атаку. Огородами и садами выходим на западную окраину поселка. Далеко в складках местности теряются мелкие группы отступающего противника.
Поступает распоряжение окопаться.
— Фриц бежит, а мы остановились, — недовольно замечает Кувалдин, на минуту разогнув спину.
— Разговорчики! — обрывает его Шапкин, примостившийся в воронке от снаряда. Его лицо испачкано пороховой гарью, вырван кусок шинели, и сквозь дыру виднеется нательная рубаха. Вспоминаю, что в моей ушанке приколота иголка с ниткой. Предложить разве взводному в роте, не сообщать о нем тому "косолапому матросу", который запер его в подвале.
— Как же ты сюда попал?
— Как все, — с серьезным видом отвечает он. Я советую ему залезть в нишу и сидеть там, пока не наступит ночь.
— И ты никому не говори. Ладно? — выглядывая из укрытия, обращается он к Мухину.
— Хорошо, — соглашается Алексей.
В траншее появляется Замков. Вытирая платком лицо, лейтенант интересуется:
— Ну, как вы тут, товарищи, устроились? Что-нибудь заметили подходящее для нас? Мои огневики не подведут! — Он ползет к Шапкину и оттуда наблюдает в бинокль за противником.
Кувалдин развязывает вещевой мешок и открывает банку консервов.
— Ешь, — предлагает мне, но сам не ест, а, сев напротив, молчит.
— О ней думаешь? — спрашиваю Егора. — Может быть, выплыла. Говорят, многих спасли, — утешаю Кувалдина, а заодно и себя.
— Не до них было.
— Почему?
— Ладно меня успокаивать. Вон Кирилку успокой, а то совсем парень скис. Попрыгай — замерзнешь, — советует ему Егор.
— Вот бездельники, — укоряет нас Чупрахин, появившийся с большой вязанкой поленьев на спине. — Я и дров принеси, и соломы для растопки, и нишу для очага ковыряй. Черти невысушенные, ведь простудитесь. Сейчас устрою вам комфорт.
Он быстро разводит костер.
На левом фланге гулко разрывается несколько снарядов.
— Злится, — замечает Иван, старательно отвинчивая крышку медальона и извлекая оттуда кусочек терки и спичку.
Политрук сообщает, что наши части подошли к Керчи, десант успешно справился с боевой задачей.
— Это хорошо, но вот остановились мы напрасно, оторвется фашист и уйдет, — басит Кувалдин.
Я замечаю, с какой строгостью посмотрел на него Шапкин.
— Ты что все долбишь: напрасно, напрасно! — прикрикивает он на Егора, когда уходит политрук. — Ты что, лучше командующего разбираешься в стратегии?
В костре шевелятся синеватые языки пламени. Падают легкие, пушистые снежинки. Слышатся раскаты шторма.
Иван предлагает мне плитку шоколаду:
— Бери и помни: — где Чупрахин, там знай наших! Ребята, кому подштанники заменить, у меня есть чистое белье. Люблю порядок. Это у меня от деда такая наследственность. Жил у нас в селе гражданин, по прозвищу Митрофан — незаштопанный сарафан. Ух как не любил его дед! Однажды Митрофан у деда рубль взаймы попросил...
Глаза слипаются, сквозь дрему слышу, как сокрушается Иван:
— Здрасте, я им про Митрофана, а они спят. Ну и пехота, матушка-рота.
Ночью во взводе появляется Шатров. Он предупреждает:
— Если гитлеровцы пойдут в атаку, высоту не сдавать, постараться захватить пленного. Вас будет поддерживать дивизионная артиллерия.
7
Впереди полыхают разрывы; небо дымное, черное. В двух метрах сидит Кувалдин и, как это он часто делает, грызет сухарь, медленно, долго. Меня это раздражает.
— Перестань!
Егор и ухом не ведет. Подползаю, дергаю за рукав:
— Слышишь?
Егор лениво смотрит в лицо, на скулах шевелятся желваки.
Час назад фашисты опрокинули на окопы огромную чашу огня и металла и льют эту тяжелую смесь без конца. Я тревожусь за Генку: он еще в нише, и, если Егор узнает о нем, он устроит мне нахлобучку.
— Хилый ты, студент! — кричит Кувалдин, пряча в карман недоеденный сухарь. — Сейчас они пойдут, готовь гранаты.
...Гитлеровцы идут плотными рядами, плечом к плечу: издали кажется, не цепи, а зеленые морские волны. "Хо-хо-хо!" — перемешиваются с выстрелами их выкрики.
Бьет наша артиллерия. Катящаяся гряда начинает редеть: в ней появляются просветы, одни фигурки отстают, другие спотыкаются, неуклюже падают, замирают на месте.
— Огонь! — заглушая выстрелы, командует Егор.
"Трах-тах-тах... Тррр-тррр, тах-тах". Стреляем дружно, почти в упор.
— Танки! — вскрикивает Беленький.
— Что орешь? — одергивает Кирилла Кувалдин. — Перестань метаться!
На гребне высотки вырастает длинная цепь неуклюжих коробок. Тотчас же среди них вспыхивают яркие снопы разрывов.
Неожиданно в траншее появляется Правдин.
— За Родину! — он взмахивает тяжелой связкой гранат, но голос его сразу тонет в гуле орудий и лязге гусениц.
Я тоже сжимаю в руке гранату и смотрю на Егора: он уперся ногой в стремянку окопа, нацелился в подползающий танк.
— Получай!
Машина, будто споткнувшись, останавливается, потом сердито кружится на месте, словно гигантское чудовище, лишившееся одной ноги. Из-за подбитых и остановившихся черных коробок выползают другие — тяжелые, дышащие жаром.
Минуту, другую танки висят над головами, плотно закрыв траншею стальными днищами.
Неподалеку падает снаряд. Комья земли поднимаются кверху, летят нам на головы. Раздается оглушительный взрыв. Траншея наполняется дымом. Некоторое время лежим неподвижно.
— Это Замков влепил в танк, — едва слышу Чупрахина. Усиленно протираю уши: в голове шум.
...Иван что-то говорит мне. Потом вытаскивает меня из траншеи. Впереди колышутся желтые языки пламени. Словно лягушки, лежат в зеленых шинелях трупы гитлеровцев. Гляжу на них и не чувствую ни злости, ни сожаления, будто вижу какие-то предметы, на которых случайно остановился взгляд, поскольку они попали в поле зрения.
Позади, в десяти метрах от траншеи, раздавленная танком сорокапятка. Из укрытия вылезает Замков. Он подходит к остаткам орудия, долго смотрит на изогнутые части,
Наши продвинулись вперед, и теперь высотка, на которой находилось боевое охранение, стала передним краем. Не вижу Мухина. Егор утверждает, что Алексей был на своем месте до конца боя, а куда делся — не заметил.
Я бросаюсь к нише: мальчика нет. Странная усталость давит на плечи. Я сильно заикаюсь, Чупрахин советует говорить нараспев и тут же приводит случай, который произошел с его бабушкой, когда она еще ходила в девках.
— Волк напугал ее, — рассказывает он, угощая меня папиросами и тыча под бок Кирилла, сосредоточенно рассматривающего немецкий автомат. — Но она же барышней была. Кто заику полюбит? Начали лечить. И каких трав не давали ей! Поди, с тонну она съела всякой растительности, а заикание не проходит. Тогда один старичок посоветовал: "Вы ее еще раз напужайте — пройдет". Напугали. После этого она месяц хворала. Старик говорит: "Перепускали. А перепуженных одно средство лечить — пусть песий играет". И начала бабушка петь. Все поет: разговоры поет, с родителями говорит — поет. И что вы думаете, так развила голосовые штуковины, что потом в церковный хор ее приняли. Так что ты, Николай, не отчаивайся, а говори спасибо, что тебя маленько пришибло, все нараспев тяни, потом Лемешева заменишь в Большом театре.
— Смотрите! — Шапкин показывает вдоль траншеи. По косогору поднимается Мухин. Впереди Алексея шагает гитлеровец с поднятыми руками, а чуть в сторонке с видом бывалого вояки идет Генка с трофейным автоматом.
— Убежать хотел, — докладывает Алексей взводному. — Ох и шибко бегает, зверюга! Вот Геннадий помог мне.
Егор подходит к мальчугану и берет его за подбородок:
— А ты, малыш, откуда взялся тут?
— Так я же, товарищ командир, служу у вас!
— Как служишь? Давно? — удивляется Кувалдин.
— Да уже часов двадцать, — бойко отвечает Геннадий.
— А лет тебе сколько?
— Осенью будет четырнадцать.
— Кто это его взял? — обращается к нам Егор. Чупрахин, взглянув на меня и, видимо, поняв все, спешит объяснить:
— Егорка, пацан, видать, с морской закалкой. Я его вчера запер в подвале, а он, чертенок, оказался на передовой. Чего ты на него шумишь, малыш уже обстрелянный.
— "Обстрелянный", — повторяет Егор. — Надо отвести к Шатрову, он устроит его в тылах, а здесь ребенку не место.
Окружаем гитлеровца. Он отчаянно моргает, словно еще не веря, что попал в плен. Шапкин приказывает Мухину отправить пленного на КП роты.
— Зачем? Шлепнем его здесь, и пусть себе отдыхает в Крыму, — предлагает Чупрахин, тыча стволом автомата в живот немцу.
Фашист прячется за Шапкина.
— Понимает, кто здесь старший, — удивляется Иван. — Вот сейчас как трахну по твоей чугунной башке, красной юшкой умоешься!
— Убери оружие, он пленный, — останавливает Шапкин Чупрахина, — отвоевался. Ведите, Мухин.
— Погоди, товарищ командир, — просит Кувалдин.
На лице у Егора вздуваются желваки, глаза темнеют, округляются. Вот такое лицо было у него, когда мы прыгали с сейнера в воду.
— Дай солдатской душе потолковать: Студент, ты по-ихнему, кажется, можешь говорить? — Кувалдин поворачивается ко мне: — Можешь?
— Мы-мы-ммогу.
— А ты говори нараспев, — советует Чупрахин. — Спроси у него, почему он полез на нас.
— Правильно, — поддерживает Егор. — Попытай, много их тут в Крыму-то?
Стараюсь говорить, но у меня получается сплошное заикание. Чупрахин злится:
— Вот дурья башка, тебе советуют: пой, пой, нараспев говори. А то я с ним сам, он поймет меня на всех языках!
— Ска-жи, м-мно-но-го ва-ас, в Крым-му-у? — пою по-немецки.
— Чуйт, чуйт, софсем чуйт...
— Слышите? — сверкает глазами Чупрахин. — Заговорил по-русски. Тогда слушай, фриц, что я спрошу.
— Мы ни фриц, ни, ни...
— Не возражай, когда с тобой говорит Ванька Чупрахин. Это я Ванька Чупрахин; Понял? А вот это — Егор Кувалдин. Это — Мухин. А вот этот — Кирилл Беленький. Вот, значит, мы тут промеж себя такое дело порешили: отучить вас, колбасников, в чужие хаты факелами швыряться. Осилим эту задачку, а?
— О-о! Да, да! Гитлеру капут, рус большой медведь.
— Ах ты гадина, медведем обзываешь! — Чупрахин замахивается на гитлеровца. — Я твой танк спалил и твоего Гитлера прикончу!..
— Не смей! — останавливает его Шапкин. — Мухин, отведите пленного к командиру роты и сдайте его под расписку. Выполняйте. И мальчишку захватите с собой...
— Эх ты, Чупрахин, испортил все, — вздыхает Егор и садится на свое прежнее место.
— "Испортил", — отзывается Иван. — Как тут можно удержаться, когда перед глазами такой экспонат. На кой черт Мухин привел его сюда? Они нашего брата под расписку не сдают. А тут, видите ли, сдайте под расписку. Как это, по-твоему, Кирилка, хорошо? Молчишь? Значит, нехорошо?
— Злой ты человек, — замечает Шапкин, помогая Кириллу зарядить трофейный автомат. — Этого пленного допросят в штабе, возможно, он сообщит важные сведения. Понимать надо!
— Злость на врага человеку не помеха. Правду говорю, Егор? — роясь в вещевом мешке, парирует Иван.
Кувалдин молчит. О чем он думает? Подхожу к нему. Вчера узнал от политрука, что Аннушка выплыла на берег, сейчас находится на КП дивизии. Сообщить об этом?
— Слышал, Аннушка спаслась? Герой, а? — стараюсь ободрить Егора.
Кувалдин ничего не разобрал.
— Ты что промычал? — наконец говорит он. — А ну пропой, слышишь, пой!..
— А-анну-уш-шка-а, на-а-а ка-а пэ-э...
— Врешь, все успокаиваешь...
— Ки-ке-кляну-усь.
Кувалдин хватает за плечи, трясет. И начинает смеяться, смеется долго, заразительно. Потом вдруг говорит:
— А знаешь, Николай, ты уже годишься в подносчики патронов. Хорошо сегодня дрался... Значит, Аннушка жива. Ты не смотри так! — прикрикивает он и переходит на шепот: — Тебе откроюсь, знаешь, что для меня Анна?
И, сбив шапку на затылок, мечтательно рассказывает, как познакомился с Аннушкой, переписывался с ней. Перед войной на одном занятии Егор сильно ушиб ногу. Его положили в госпиталь. Полк ушел на фронт, а он, разыскав Сергеенко в Ростове, где она училась на курсах радистов, вместе с ней попал на формировочный пункт. Рассказывает неумело, сбивчиво и неожиданно заключает:
— Аннушка — моя жена.
— Чи-чи-что?
— Хватит, сказал — больше ни слова!
Вздохнув, принимает прежнюю позу. Ослышался или действительно он сказал: Аннушка его жена? Лучше бы этого не слышать.
А Егор говорит о другом:
— Тишина какая! Будто и не было боя... Окопается на Акмонайских позициях, тогда придется лишнюю кровь проливать. Сидеть нам тут не дело.
— Опять он свое. Куда пойдешь, когда так контратакует.
— Немцы, они хитрые, у них боевого опыта больше, — словно отвечая на мои мысли, продолжает Кувалдин. — Частью сил контратакуют, а остальные отводят на более выгодные рубежи.
Шапкин тихонько останавливается за спиной у Егора. Вытянув шею, настораживается, замечает мой взгляд, произносит:
— Гений! Талант! Эх, Кувалдин, шел бы ты помощником к командующему фронтом. Болтаешь тут всякую глупость... Собирайся, пойдешь за ужином.
Через час Егор возвращается. Вместе с ним приходит Шатров. Он расспрашивает о вновь выявленных у противника огневых точках. Вооружившись биноклем, устраивается в отдельном окопе. Сидит там до утра. Со стороны Керчи доносится какой-то гул. Шапкин предполагает: фашисты готовят контратаку, и приказывает подправить разрушенные места траншеи. А когда Шатров покидает окоп и спускается к нам, задаем ему вопрос:
— Фашисты готовят контратаку?
Подполковник набивает трубку табаком и, словно рассуждая вслух, говорит:
— Не то, не то... Товарищ старший сержант, усильте наблюдение за выходом из Керчи. Похоже на то, что противник готовится к отдыху.
Он уходит. Сейчас, видимо, доложит командованию о своих наблюдениях, и, возможно, завтра пойдем вперед. Скорее бы.