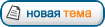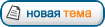Щербанов ВладимирПарадоксы Аджимушкайской трагедии
1. Парадоксы, предшествующие трагедииОсенью 1941 г. во время первой оккупации Керчи, в Малых аджимушкайских каменоломнях была подготовлена база и оставлен небольшой партизанский отряд им. В.И. Ленина. И хотя база комплектовалась из расчета, что отряду придется вести борьбу несколько месяцев, а оккупация продлилась чуть больше месяца, но активные действия были крайне ограничены сложными условиями каменоломен.
Анализ действий и жизни отряда был мало утешителен: даже для небольшого по численности отряда, базирующегося в “скалах”, осложнены варианты передвижений и активных действий. Возможность заблокировать отряд и не выпускать из района каменоломен - очень велика... Идея специально готовить и оставлять партизанские отряды в подземных выработках - мало эффективна...
Будучи в феврале 1942 г. по заданию “Красной Звезды” в Керчи, Константин Симонов впервые (!) за всю свою журналистскую практику не привез ни одного нужного по теме материала. Редактору газеты “Красная Звезда” и своему другу Д.Ортенбергу позже он
признавался, что “эта поездка была моральным испытанием”, и чувствует, что на Крымском фронте надвигается трагедия...
Если признать, что “предчувствия” Константина Симонова основывалось вовсе не на эмоциях, а на фактах увиденного и услышанного, то наверняка не последнюю роль в этом сыграли и Приказы командования Крымфронта и то, к чему они вели...
С зимы 1942 г. командование (в первую очередь представитель Ставки армейский комиссар 1-го ранга Л.З. Мехлис) запрещало солдатам рыть окопы полного профиля, строить эшелонированную оборону и выбрасывать осколочные “рубашки” к ручным гранатам, применяемые для увеличения поражающего пространства.
Основанием явилась идеологическая мысль, чтобы не подрывать наступательный дух армии. “Свалки” таких осколочных “рубашек” к гранатам РГД-33 обнаружили поисковые отряды в каменоломнях на Ак-Монайском перешейке, в районах, где с января по май 1942 года проходила линия обороны армий Крымского фронта.
2. Действительность и парадоксы обороны У входа в бухту, по берегам которой расположен город Керчь, смотрят в сторону Черного моря амбразуры старой крепости. Крепость “Ак-Бурун”, построенная пару столетий назад и занимающая стратегически выгодное место на керченском полуострове, представляла и представляет из себя, фортификационное сооружение два-три уровня помещений которой были укрыты под землей.
На май 1942 года в крепости располагался гарнизон численностью более двух тысяч человек. На территории находились склады артиллерийских снарядов, торпед, глубинных бомб, различных калибров и наименований, а также склады снаряжения и продуктов питания. Некоторые из складов были укомплектованы еще со времен Первой Мировой войны. Гарнизон имел наземную и противовоздушную артиллерию.
В двадцатых числах мая, после того как уже была оккупирована Керчь, получив приказ командования на отступление, крепость была организовано, оставлена гарнизоном за исключением группы прикрытия.
В этих же самых числах Особый отряд полковника Ягунова П.М., только что сформированный по приказу командующего Крымфронтом генерал-лейтенанта Козлова Д.Т. для прикрытия переправ и эвакуации частей и подразделений фронта, продолжал держать оборону в районе поселка Аджимушкай. Но “особый приказ” - оставить позиции не был передан полковнику Ягунову ни через неделю, ни через месяц.
Выполняя последний приказ “Держаться...”, бойцы и командиры, оказавшиеся в окружении у поселка Аджимушкай были вынуждены спуститься в безжизненную пустоту каменоломен и создать из них боевую крепость, неприступную для врага на шесть (!) долгих месяцев...
Командование Крымфронта (командующий генерал-лейтенант Козлов Д.Т., представитель Ставки Верховного главнокомандования, армейский комиссар 1-го ранга Мехлис Л.З., член Военного Совета, дивизионный комиссар Шаманин Ф.А., начальник штаба, генерал-майор Вечный П.П.) бежало за пролив раньше своих войск, забыв дать Особому отряду прикрытия приказ на отступление. Но уже 20-го мая за проливом (и даже после войны) командование заявляло, что “все войска и техника выведены с Керченского полуострова...”.
Командующий же Закавказским фронтом маршал Буденный С.М. (критиковавшийся в последние годы военными историками как неумелый и недальновидный командир) оказался одним из немногих крупных военачальников Великой Отечественной войны, кто пытался оказать помощь и облегчить участь нашим частям, оставшимся в окружении под Керчью в мае 1942 года. По его приказам в течение нескольких месяцев в р-он Аджимушкая направлялись самолеты с питанием, боеприпасами и разведгруппы для связи с подземным гарнизоном.
О непредвиденных сложностях, ожидавших гитлеровские войска, даже после захвата Керченского полуострова, позже будут писать немецкие историки и очевидцы тех событий. Из книги Ф.Пико “Загубленная пехота” (Франкфурт-на-Майне, 1957 г.): “...Очищение города продолжалось более длительное время, т.к. значительные подразделения русских, превратившись в горняков, ушли под землю и превратили подземный лабиринт в гнезда сопротивления, откуда непрерывно и неожиданно атаковали...”.
Взрывали каменоломни над нами несколько месяцев, - вспоминает участник обороны из Донецка Немцов Н.Д. - Вначале рвали выходы из каменоломен, пытаясь живьем замуровать в подземельях. Позже по всей площади каменоломен... Каждый взрыв, обвал - братская могила”.
При подрывах каменоломен гитлеровцы использовали в основном советские (!) авиабомбы, которые были брошены на аэродромах Крымфронта под Керчью...
Аджимушкайские каменоломни стали для гитлеровцев хорошим полигоном испытания и использования химического оружия и отравляющих веществ. Не случайно сюда был вызван 88-й саперный батальон гитлеровцев, а на станции Владиславовка стояли вагоны с химическими снарядами и гранатами. Одну из неиспользованных газодымных шашек немецкого производства, обнаруженную поисковиками из г. Ростова в 1986 г., даже в Академии химзащиты (г.Москва) не смогли идентифицировать, поскольку эта маркировка не проходит по каталогам Рейха (возможно экспериментальная партия).
Но командование Красной Армии ни в сорок втором, ни в сорок третьем годах не выступало с заявлениями перед мировой общественностью о применении гитлеровцами химического и газового оружия на Крымфронте, запрещенных международной конвенцией, поскольку... официально нашей стороной было заявлено, что советских регулярных войск в мае 1942 года под Керчью в окружении не было. А значит, и заявлять протест не было повода!..
Логика действий преступника не всегда понятна. Пока нет точной и полной информации, события и действия становятся загадкой. Вот одна из них... Наиболее сильные разрушения каменоломен были произведены гитлеровцами не в Центральных каменоломнях, где располагалось около 10 тысяч защитников, а в северной и северо-восточной части Малых каменоломен, где по имеющимся данным было всего около 3 тысяч солдат и командиров (!?).
Предполагаем, что гитлеровцы не случайно столь усиленно взрывали эту часть этих каменоломен. Видимо в первый период обороны (до конца мая начала июня 1942 г.), в этом районе оказывала ожесточенное сопротивление группа под командованием полковника С.А. Ермакова. В группу полковника Ермакова С.А. входили бойцы и командиры 291-го горно-стрелкового полка 63-й горно-стрелковой дивизии, кавалеристы 72-й и 40-й КД и моряки. Большинство из них так и осталось под многометровыми завалами каменоломен.
Точных и подробных данных об этой группе и о сложностях взаимоотношений с группой ст. л-та Поважного М.Г. - нет... Нет и имен большинства, оставшихся под обвалами северной и северо-восточной частей Малых каменоломен...
3. И главный парадокс... Очевидным был и остается факт - условия в каменоломнях не для жизни: температура в самые жаркие дни не поднимается выше +6 - +8 градусов Цельсия, влажность до 80%, постоянные сквозняки, у выходов известняковая пыль... Даже крысы устраивают гнезда на поверхности, а подземелье совершают только вылазки; собаки и кошки боятся
аджимушкайских выработок на уровне физиологии.
В ходе зимней экспедиции 1985 г. ростовская группа проводила психологический эксперимент - жила под землей и вела поиски 10 дней на полном автономном режиме, без выхода на поверхность... По завершению работ, у всех участников были воспаленные глаза, слезившиеся на поверхности - 3 дня. После экспедиции поисковики вынуждены были провести в гостинице с закрытыми окнами несколько дней, чтобы постепенно снять напряжение глаз и адаптировать их к свету...
Несмотря на всю невозможность длительной жизни под землей, командиры гарнизонов полковник Ягунов П.М., подполковник Бурмин Г.М., полковник Ермаков С.А. и старший лейтенант Поважный М.Г. смогли не только наладить жизнь и быт тысяч людей, но и
организовать круговую, активную оборону подземной советской территории !
Они смогли превратить безжизненные каменоломни в крепость на 170 суток. В укор всем предавших их и на страх врагу, вычеркнутые из списков живых, раздавленные взрывами и отравленные газами солдаты и командиры Крымфронта даже в таких условиях выполняли свой долг!..
Начало июля, когда пал Севастополь, лишило защитников Аджимушкая последней надежды на скорое наступление. Стала нереальной надежда на скорое освобождение!.. Умирала вера(все это время цементирующая дисциплину и дававшая силы людям) в то, что при наступлении Красной Армии защитники ударят врага с тыла и ускорят прорыв!..
А через несколько дней еще одно испытание Духа и Воли солдатам и командирам подземной крепости уготовила судьба трагически погиб командир гарнизона полковник Ягунов П.М., подорвавшийся в штабе на мине-ловушке!...
Психологи считают, что в подобных условиях опускаются руки и сдают нервы у самых сильных...
Новый командир гарнизона подполковник Бурмин Г.М., который до этого возглавлял 2-й батальон, прорвавшийся в конце мая из подвалов завода им. Войкова, смог не только поднять дисциплину защитников, но активизировать боевые действия против гитлеровцев.
Несколько раз поселок Аджимушкай захватывался солдатами подземелий, и гитлеровцы были вынуждены вызывать подкрепление и артогонь тяжелой артиллерии с горы Митридат!
Действие гарнизона заставили немецкое командование до конца октября 1942 г. (!) держать вокруг каменоломен несколько полков, столь необходимых на фронте...
И хотя все оставшиеся в живых защитники Центральных аджимушкайских каменоломен утверждали, что полковник Ягунов П.М. был единственным человеком, похороненным в каменоломнях в гробу, и его единственного хоронили после взрыва в штабе. Тем не менее, когда в 1988 году, при расчистке выработок, наконец был найден гроб с останками командира, рядом лежали останки еще одного офицера!?..
Незадолго до обнаружения останков полковника Ягунова П.М., в Керченском историко-археологическом музее в отделе Аджимушкайской обороны появился мужчина преклонных лет с орденскими планками, представился участником обороны Рыкуновым Дмитрием Сергеевичем из Одесской области и оставил короткие воспоминания, которые по ходу разговора бегло записала сотрудник музея.
В воспоминаниях он единственный (!), кто сказал, что полковник Ягунов П.М. был похоронен вместе с майором Лозинским, останки которого положили рядом с гробом командира. Ни до этого, ни после, никакой информации о майоре Лозинском получить ни поисковики- исследователи, ни сотрудники заповедника не смогли!?..
Разыскать ветерана Рыкунова Д.С. ни по адресу, который он оставил, ни через адресное бюро, ни через Центральный архив до сих пор не удалось...
Центральная каменоломня не спешат раскрывать свои тайны. Некоторые из них и сейчас не разгаданы...
В восточной части Центральных каменоломен давно известно обширное место, пол которого устилает метровый (!) слой сгоревших гильз и пуль советского довоенного образца и рядом сгоревший склад артиллерийских снарядов. Ростовская поисковая группа, исследовавшая вместе с саперами эти места, обезвредили лишь в 1989 году в общей сложности тринадцать тысяч (!) снарядов.
“Самый крупный склад боеприпасов на Крымском полуострове со времен войны”, - как писала тогда “Вечерняя Одесса”. Там же были найдены вперемежку со снарядами и сгоревшими гильзами останки нескольких человек, остовы четырех винтовок и солдатский котелок с надписью: “Соленый Виктор Петрович. Август 1942 г.”. Эта находка подтверждает предположение, что это склады Крымфронта, которые видимо и использовались защитниками Аджимушкая мая-октября сорок второго.
Но... никто из оставшихся после войны участников обороны каменоломен ни разу не вспоминал о пожаре или взрывах складов?! ... История этих подземных складов, также как и причины и времени их пожара, остаются одной из загадок - “белым пятном” для исследователей обороны...
4. Есть ли парадоксы в послевоенных исследованиях?.. Не зная своего прошлого, можешь не иметь и будущего - таков смысл известной мудрости.
Поэтому, пятнадцать лет поисковой работы заставили меня искать ответ на вопрос: когда и по какой теме Великой Отечественной войны были начаты самые первые поисковые работы-исследования? Нет, не расследования и разбирательства “компетентных органов” и не пропагандистские кампании журналистов по заказу государства. А сбор информации, документов и непредвзятая оценка событий сторонних людей, которых “ранила” трагедия темы даже при беглом знакомстве с ней ...
За эти годы я ознакомился с историей изучения обороны Брестской крепости и гибели 2-й Ударной Армии, обороны Смоленска и Вяземского окружения, бесславно оставленного наиболее подготовленного за годы войны Ростовского укрепрайона и поисков останков капитана “Гастелло”…
И на сегодняшний день есть серьезные основания считать, что первой трагической страничкой войны, давшей первый исследовательский опыт фронтовой Истории, а впоследствии ставший началом всему поисковому движению бывшего Советского Союза, был все же Аджимушкай. Здесь, в ноябре 1943 года вместе с десантниками вдохнул горький воздух во время непродолжительных исследований каменоломен Илья Сельвинский, после чего родилось стихотворение “Аджимушкай”.
А в январе 1944 года командование 414-й стрелковой дивизии, части которой занимали линию фронта в Аджимушкае и укрывались в каменоломнях, было вынуждено назначить специальную комиссию, чтобы хоть как-то приоткрыть тайну трагедии, невольными свидетелями которой стали бойцы и командиры этой дивизии.
Работу той комиссии можно считать “первой поисковой экспедицией”, обнаружившей и отметившей в своем Акте обследования не только следы событий мая-октября сорок второго, но и документы, найденные тогда в подземельях. Даже те, которые позже были изъяты
“корректорами” военной цензуры и уничтожены. К примеру, подлинник дневника Серикова-Трофименко и те документы, содержание которых мы уже никогда не узнаем...
О том первом письме 1958 г., привлекшем внимание одного из наиболее известных первых исследователей-поисковиков крупных С.С. Смирнова к теме Аджимушкая, можно прочитать в книгах самого исследователя.
Менее известен тот факт, что хотя через несколько лет Сергей Сергеевич признавал, что “история Аджимушкая - это вторая Брестская крепость, только большая по масштабам и по продолжительности”, тем не менее, эту тему, как и тему 2-й Ударной Армии, он почему-то (?) срочно был вынужден оставить... В его работах она так и осталась лишь в “пробных вариантах...”.
Юродиевая судьба... В течение почти двадцати лет после войны в официальной истории тема обороны Аджимушкая считалась позорной и закрытой...
Большинство оставшихся в живых участников обороны прошли через советские фильтрационные лагеря, лагеря для заключенных и многочисленные проверки ... Многие по этой причине до последних своих дней старались не вспоминать об участии в Керченских событиях мая-октября 1942 г. или давали поверхностную информацию...
Еще осенью 1960 г. в Керчь приехал молодой неизвестный художник Н.Я.Бут. В один из пасмурных дней он попал в поселок Аджимушкай, спустился в каменоломни и ... “
Я был подавлен, разбит, опустился на камни и просидел несколько часов, - в восемьдесят пятом году рассказывал Николай Яковлевич автору этих строк. Последующие две недели до отъезда я каждый день приходил в Аджимушкай. Родилась масса задумок вперед на десять лет... Сейчас я могу сказать, что я сделала лишь малую толику по теме...”. Все последующее творчество Н.Я.Бута будет отмечено болью Аджимушкая...
3а 1986-1989 годы в ходе поисковых экспедиций журнала “Вокруг света” ростовской группой были обнаружены несколько различных газодымных шашек и систем балонов, использовавшихся гитлеровцами против защитников подземного гарнизона и мирных жителей, находившихся в каменоломнях.
Эксперты Министерства внутренних дел провели изучение химического состава и дали заключение. В одном из заключений была такая строка: “Состав химических веществ, используемых в газодымной шашке в каталогах германских войск, имеющихся в распоряжении МВД СССР и Министерства обороны СССР не отмечен... Возможно опытный образец”...
Это словосочетание “опытный образец” нас натолкнуло на одну мысль, что все, кто прошел ад Аджимушкая были своего рода “Опытными образцами” применения химического оружия. Но даже из них был толькоодин человек - специалист по военной химии, полковник Верушкин Ф.А., закончивший в 1940 году Академию химической защиты, а в сорок втором испытавший газы на себе и видевший их результат. Судьба же самого полковника Верушкина Ф.А. и по сегодняшний день до конца не известна.
Взвесив всю имеющуюся у нас информацию и посовещавшись с директором музея, мы решили предложить руководству Академии химической защиты открыть в своем музее раздел, посвященный Аджимушкайской обороне, их выпускнику, полковнику Верушкину
Ф.А. и передать им на хранение редчайшие образцы химического оружия.
Каково же было мое удивление, когда, ознакомив в Москве руководство Академии с информацией, Актами экспертизы, фотокопиями образцов, мы услышали: “Спасибо, для нас это неинтересно...” (!)
В 1986 году, в состав экспедиции из Ростовской области был включен поисковик из Одессы Сергей Коновалов. Разрабатывать продолжали один из обширных завалов в восточном районе Центральных каменоломен - завал “Четырех курсантов” или “Гробовой”. Этот район ростовчане уже обследовали третий год, и каждый раз он давал интересные находки, о чем частично говорят и его названия.
Старшим группы здесь был Алик Абдулгамидов - комиссар экспедиции. Но в этот год группа отработала две недели, а находок практически не было - шла расчистка взорванного грунта.
Коновалов работал неистово, даже на опасных участках. Его словно что-то толкало. Когда возникала возможность обвала, делали деревянный крепеж. За день до окончания экспедиции, хотя вышли на побеленную кладку и рельсы, которыми когда-то крепился
потолок, что давало “пищу” для смелых предложений, были вынуждены “законсервировать” завал и проходку до следующего года. Но в 1987 году Алика, “консервировавшего” раскоп и знавшего особенности крепления не было. Опоздал в экспедицию и Сергей Коновалов.
Узнав, что экспедиция прошла без него, он не смог долго усидеть в Одессе, приехал в Керчь вдвоем с товарищем в ноябре месяце. И хотя существует негласный закон - вне экспедиций не работать и в одиночку не вскрывать “законсервированные” экспедицией места, но что-то его все же толкало и подгоняло...
На третий день они обнаружили сейф с бумагами (!) - металлический ящик с документами штаба 2-го батальона подземного гарнизона. Со времен войны это была первая и единственная такая находка!.. И опять Сергей делает грубейшее нарушение правил поисковика и очередной нелогичный поступок он не информирует музей и увозит документы в Одессу...
Если в то время мы не придавали значения некоторым совпадениям и параллелям, то по прошествии лет, мы, кто знал и участвовал в той истории, все больше удивляемся...
Оказавшись уже в Одессе с сырыми, рассыпающимися бумагами из сейфа, Сергей Коновалов действительно испугался. Испугался ни милиции, которую уже планировалось привлечь, чтобы вернуть документы музею, ни мнения нас - поисковиков, хотя он знал, что если документы погибнут, ему не простят те, кто по десять-пятнадцать лет пробиваются под завалы Аджимушкая, чтобы найти хотя бы один документ.
Он испугался, что не удастся расслоить и закрепить хрупкие листы спрессованной бумаги, и документы будут безвозвратно потеряны!.. Это его подтолкнуло к поиску того и тех, кому можно было бы отдать документы на изучение. И так Сергей вышел на тогда еще майора милиции Виктора Михайловича Соколова, знакомого и с историей Аджимушкая, и с экспедициями в каменоломнях через одесскую группу “Поиск” Константина Пронина.
После месяца сложнейшей и утомительной работы Виктор Михайлович Соколов смог расслоить, закрепить и прочитать 106 (!) документов штаба 2-го батальона за период июль-август 1942 года. Сто шесть документов: протоколы партийных собраний, Акты выписки раненых из подземного госпиталя, Акты на погибших и умерших и даже представления к очередным воинским званиям и правительственным наградам (и это через три месяца (!) после начала подземной эпопеи!)...
Но главное все же не это (сейчас так считают и в Керчи, и в Ростове, и в Одессе, и в Москве все, кто посвятил годы исследованию Аджимушкая). Не смотря (или благодаря) всем неправильным и необъяснимым поступкам Сергея Коновалова, документы попали в руки, пожалуй, единственного человека во всем тогда Союзе, который мог и имел желание сделать даже невозможное, чтобы спасти все, что было можно из тех документов!.. Это счастливое стечение обстоятельств или Судьба.
А Сергей Коновалов?.. “Анархист”, как мы его называли, до предела увлеченный и преданный раскопщик, простой и бесхитростный “бессеребрянник” погиб в 1990 году, подорвавшись в Одессе на противотанковой мине...
Что давало силы заниматься поиском, когда его бросила жена, когда вынужден был уволиться с работы? Что его зажигало и толкало во время работ - это нам до сих пор не понятно...
Сейчас вспоминаю, как однажды, под большим секретом мне показали машинописный вариант книги об Аджимушкае одного из первых исследователей каменоломен, керчанина, журналиста, того, кто еще мальчишкой бегал в послевоенные годы по мертвым выработкам подземелий - В.В.Биршерта. За несколько часов, которые были в моем распоряжении я бегло ознакомился с содержанием.
Надо сказать и на тот момент и сейчас эта книга одна из немногих более объективных и интересных рассказов о трагедии под Керчью. В нее включены документы не только малоизвестные читателю, но и неизвестные даже исследователям - из личных архивов автора. Эта книга написана более пятнадцати лет назад.
Ее неоднократно запрещали печатать, а Бершерту В.В. рекомендовали ее даже уничтожить...
Но это было в то - цензурное время. Сейчас книга... также не издана... Неужели и сейчас живы еще те, кому мешает правдивая информация по разгрому Крымфронта ?! ...
Так и бывает. После ухода первого директора отдела Аджимушкайской обороны на пенсию, бессменно проработавшего на этом посту почти двадцать лет (!), участника Великой Отечественной войны, подполковника авиации в отставке Щербака Сергея Михайловича, практически каждый год менялись директора. И время было сложное перестроечное да пересменочное и главное, что работа сложная, напряженная, неоднозначная, требующая не только знания и интереса, но и душу.
Поэтому, когда пришел новый заведующий отделом молодой, далекий от военной тематики, отработавший много лет в отделе античной истории, немногословный скептик, руководители поисковых экспедиций “Аджимушкай” из Ростова-на-Дону и из Одессы, каждый год приезжающие проводить экспедиции в каменоломнях Керчи, были уверены, что и этот не надолго.
Но Владимир Владимирович Симонов сделал то, чего и сам от себя, наверное, не ожидал - он остался и так глубоко “окунулся” в эту сложную тему, что уже через два года стал специалистом по обороне Аджимушкая 1942 года. А сейчас он еще является тем человеком и той “нитью”, которая даже в наше неправильное и безденежное время находит пути объединять силы и на Украине, и в России тех немногих, для кого Аджимушкай 1942 года не история, а пример Жизни, человеческой воли, долга и чести...
Ирония судьбы. За годы поисковых экспедиций в Аджимушкай приезжало много отрядов энтузиастов: из Липецка, Симферополя, Миасса, Одессы, Саранска, Астрахани, Ростова-на-Дону, ... , но только два отряда приезжают постоянно. Да и чему удивляться - находок бывает очень мало, а чтобы до них добраться, надо перекинуть тонны камня и десятки кубометров грунта, постоянная сырость, сквозняки и “давление” “каменного мешка”.
Так или иначе, но последние годы постоянно работают группы “трех Владимиров” - сотрудники музея Аджимушкайской обороны (заведующий отделом Владимир Симонов), двадцать лет приезжает с отрядом из города Одессы Владимир Васильев и пятнадцать лет ведет поиск с отрядом из Ростовской области Владимир Щербанов.
Еще лет десять назад работать было гораздо легче - была поддержка, была кое-какая и помощь от государства и музея... Сейчас музей не в состоянии оказывать помощь экспедициям, порой бывает наоборот. Снизился интерес к раскопкам и у наших сограждан, а как иначе - если каждый день надо думать о хлебе насущном...
Но, тем не менее, ежегодно первого августа сводная экспедиция “Аджимушкай” под руководством “трех Владимиров” и Виктора Михайловича Соколова из Одессы уходит в подземный поиск! Не спрашивайте, что их заставляет это делать, не пытайтесь получить ответ... Да и ответить почти невозможно. Их просто не отпускает Аджимушкай...
Я не склонен к оккультизму и мистике, но есть моменты в жизни, где наука и логика бессильны... За годы работы в каменоломнях Аджимушкая приходилось со многими повстречаться, многое увидеть и со многим столкнуться.
В районах каменоломен, удаленных от выходов, или тихими ночами над каменоломнями, я иногда ощущал неприятное чувство... постороннее присутствие. В отдельных местах это беспокойное чувство приобретает более конкретные формы - ощущение пристального испытывающего взгляда, взгляда спокойных влажных глаз...
Естественно, что такими ощущениями человек не склонен делиться, поскольку все это не слишком реально и не слишком нормально. Не рассказывал об этом и я, пока в начале один из моих коллег, отработавший более пяти лет в Аджимушкае, а затем другой, как бы случайно не спросили: “Кириллович, а как ты думаешь, взгляд со стороны неприятно на себе ощущать?.. Прямо мистика...”.
Об этих пристальных глазах в каменоломнях я уже слышал человек от двадцати. Неприятное ощущение. Вот только мистика ли это или массовая паранойя, или ...
г. Ростов-на-Дону.
Источник.