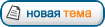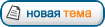Раков Василий ИвановичИз книги "Крылья над морем".
Аннотация издательства: Севастополь — Керчь
В начале марта полк Канарева, закончив в Поти доформирование, перебазировался в Керчь, готовясь принять участие в так нетерпеливо ожидаемом наступлении.
Срок наступления не был известен, его держали в секрете, а саму подготовку не скрывали. О ней говорили даже на политинформациях, поднимая дух бойцов.
И действительно, люди рвались в бой. Под Москвой враг был не только остановлен, но и разгромлен. В канун Нового года здесь, на Черном море, блестящим налетом, с ходу, в один день были взяты десантниками Керчь и Феодосия — крупные портовые города. Теперь наша очередь гнать гитлеровцев, говорили бойцы. Было радостно думать так после того, как мы испытали горечь полугодового отступления.
Десантные операции по взятию Керчи и Феодосии были действительно блестящими. Незначительные потери, которые мы там понесли, не шли ни в какое сравнение с потерями при отступлении. Верилось, что и дальше все пойдет хорошо.
— Сила наша велика! Даешь Крым! — с таким настроением готовились к наступлению.
Канарев базировался не в самой Керчи, а на озере Тобечик, в двадцати пяти — тридцати километрах южнее. До этого авиация на озере не сидела. Пришлось все приспосабливать и оборудовать заново.
Сооружение спусков для гидросамолетов — дело весьма сложное, дорогостоящее и требующее длительного времени, которого на войне никогда не хватало.
Выручила русская смекалка. Капитан Мусатов, командир первой эскадрильи полка Канарева, обнаружил большое количество труб, оставленных противником. Фашисты хотели организовать здесь нефтеразработки. У нас прежде никаких нефтеразработок там не было. О месторождении знали, но оно не имело промышленного значения. Гитлеровцы, однако, старались использовать каждую каплю горючего. Его не хватало; запасы сокращались, а пополнять их было трудно. Констанцу бомбили, да она и не могла насытить прожорливую фашистскую утробу. Гитлеровцы, как ищейки, разнюхивали: где пахнет нефтью? Почувствовали ее запах в Керчи — и повезли туда оборудование. Вот и остались там трубы.
Их диаметр был самым для нас подходящим. Сложив трубы по двое, получали своеобразный лоток, по которому хорошо могло идти колесо тележки самолета. Или, еще лучше, между двумя трубами клали третью, меньшего диаметра. Соединив их все вместе, опустили одним концом в воду. Параллельно был проложен другой трубчатый лоток, и по этим своеобразным рельсам вытаскивали самолеты на берег. Каждый самолет имел свой спуск, — труб было более чем достаточно. Обширный берег позволял широко рассредоточить самолеты, и поэтому им была не особенно страшна бомбежка. Получив задание, все самолеты одновременно спускались на воду и с минимальными интервалами во времени поднимались в воздух.
В тот период полк полностью переключился на ночные полеты. Самолеты бомбили передовые позиции врага, корабли, скопления пехоты, танков, командные пункты. Летали и на свободную «охоту»: увидел что подходящее — бросай бомбы.
Однажды, вернувшись с такой «охоты», один из экипажей доложил, что после сбрасывания бомб был виден сильный взрыв и большой пожар. Поскольку понятия «сильный взрыв» и «большой пожар» весьма относительны, а оценки зависят часто от субъективного восприятия, докладу не придали особого значения.
Ну, сильный взрыв — значит, бомбы упали не на пустое место. А пожар мог возникнуть и при попадании в деревянный дом. Донесение пошло по инстанциям и затерялось в отчетных документах.
— Кто у вас летал двадцать восьмого марта? — последовал недели через две звонок из штаба ВВС.
— Канарев летал!
— Нет, кто персонально?
— Что значит персонально? Полк сделал больше полсотни вылетов, почти по три вылета на экипаж. Сам Канарев сделал два вылета, а Мусатов четыре! Чем именно интересуетесь?
— Партизаны сообщили, что вы разбомбили в эту ночь скопление танков, которые противник сосредоточил на ночевку возле Карасубазара.
Вот что значили большой взрыв и пожар, донесение о которых сперва приняли довольно скептически.
В марте и апреле полк Канарева работал весьма интенсивно и успешно. Виктор Павлович часто поднимался в воздух сам, а это наилучшим образом действовало на настроение личного состава.
Будучи не столько по характеру, сколько внешне суховатым и даже подчеркивая эту сухость и строгость, необходимые командиру, Виктор Павлович на деле служил примером для всех своих подчиненных.
— Почему нам не дают увольнительных в город? — роптали порой некоторые «свободолюбивые» сержанты.
— Командир летает не меньше твоего, а сам никуда не выезжает из полка, — отвечали им, и больше те уже ничего не могли сказать, разве что «вот у Чебаника ходють». Но это уже ни на кого не производило впечатления.
Командный пункт Канарева помещался в землянке, не имевшей особых укрытий. Столовая была оборудована в крестьянском доме. Когда в один из первых дней после перебазирования я побывал там, мне бросилась в глаза большая картина, проткнутая и разрезанная штыком.
— Кто же это так изуродовал картину? — не удержался я от вопроса.
Виктор Павлович посмотрел на меня удивленно.
— Конечно, не мы! — сказал он, и я тут же вспомнил о фашистах, хозяйничавших тут не так давно.
В апреле на Черное море прибыл заместитель командующего авиацией Военно-Морского Флота генерал Коробков. Я помнил, как сухо он разговаривал со мной за два года перед тем, сообщая о назначении на Черное море. Но теперь я увидел, что это человек приветливый и мягкий. Не знаю, почему он держался иначе при первой встрече. Коробков обладал удивительной работоспособностью и очень мало думал о себе. Мы знали, что в Москве, в штабе, он при любых бомбежках (а в 1941 году на Москву упало немало бомб) оставался на своем месте, несмотря на завывания сирен. Работал круглосуточно.
— Мы же на войне! Наш штаб мог быть и на передовой.
Иногда шутил:
— Когда будет падать бомба с моим именем, тогда можно и спуститься в погреб, а сейчас это не мои!
В Севастополе он обратил внимание на частые, почти непрерывные воздушные тревоги, объявлявшиеся при появлении даже одиночных разведчиков. Военным, в сущности, это было безразлично, но на оборонных работах, а главное на Морском заводе и в авиационных мастерских, где ремонтировались самолеты, привозившие кучу пробоин после каждого боевого вылета, люди почти не имели возможности нормально работать. Только приготовятся, как слышен голос диктора:
— Воздушная тревога! Воздушная тревога!.. Часто это бывало зря. Мало ли, пролетел разведчик. Правда, и с объявлением отбоя тревоги изрядно ошибались. Рассказы об этих случаях звучали как анекдоты, но они происходили в действительности. Такая уж сложилась обстановка.
— Отбой воздушной тревоги! — как-то сообщил диктор, и тут же послышались мощные взрывы: — Ой нет! Бомбят! Бомбят! — закричал он, а слушавшие это весело смеялись, несмотря на далеко не веселые дела.
— Зачем вы объявляете тревогу из-за каждого самолета? — задал Коробков вопрос в штабе ВВС.
В те дни только что появились на воздушных постах наблюдения первые, не очень совершенные, правда, радиолокаторы. Но поскольку тогда еще не научились создавать для них искусственные помехи, они все же давали необходимые данные. Операторы могли ошибиться в количестве самолетов, но сам факт налета они не пропускали. И расстояния, на которых обнаруживали авиагруппу, были значительно больше тех, на которых начинали слышать звукоулавливатели — единственное до радиолокаторов средство, дополнявшее наши несовершенные зрение и слух.
— Объявляйте тревогу только при налетах групп составом больше трех самолетов, — отдал распоряжение генерал Коробков. — А одиночные пусть летают, это разведчики. В крайнем случае, если и бомбардировщик, одиночный не так уж страшен.
Это распоряжение помогло упорядочить работу севастопольских предприятий и оборонительных строек. Капониры для наших самолетов и вторые линии обороны сооружали не саперы — их не хватало — и не только солдаты с матросами. На каждого солдата или матроса приходилось не менее двух десятков женщин и подростков, почти детей, из Севастополя.
Женщины и дети Севастополя ежедневно совершали подлинно героические дела. Эти люди жили в постоянной тревоге, которая утихала, лишь когда они были среди военных, работавших рядом с ними.
24 апреля генерал Коробков собрался в Круглую бухту, возле которой располагались авиационные мастерские, испытывавшие острый недостаток в запасных частях, деталях и рабочей силе. Коробков хотел сам посмотреть, чем можно им помочь.
— Если вы не запланировали что-либо другое, съездим вместе, — предложил он Острякову.
Остряков собирался в район Юхариной балки. Там начинали готовить аэродром для наших штурмовиков, которые, несмотря на большие потери в воздухе и на земле, упорно сражались с многочисленным врагом. «Ну ничего. Успею и в Юхарину», — решил он и вместе с Коробковым вышел с командного пункта.
Больше они туда не возвратились...
Пост воздушного наблюдения, снабженный только что появившейся радиолокационной станцией «Редут», засек группу самолетов, идущую с севера.
— Разведчики или бомбардировщики? — задумались операторы. Они видели на экране не то две, не то три цели.
В действительности самолетов было шесть. Построившись плотным строем — каждое звено клином, они обманули операторов, опыт которых исчислялся буквально несколькими днями.
— Идут на Круглую! — сообщили с поста, следящего за курсом самолетов.
Направление на Круглую бухту особенно не встревожило. Через бухту шли на бомбежку батарей, аэродрома или передовой.
Авиационные мастерские, расположенные в помещениях казарменного и складского типа, окруженных разрушенными домами, частично разрушенные и сами, не выделялись как какая-нибудь особенная цель. Большого движения вокруг тоже не было: поврежденные самолеты привозились ночью и сразу же ставились в цех.
Но в этот раз фашистские самолеты держали точное направление именно на бухту.
— Это они на боевом курсе! — сообразил майор Скворцов, прибывший туда вместе с Коробковым и Остряковым.
Бросившись в цех, где были Остряков и Коробков, он крикнул:
— Воздух! Самолеты на боевом курсе!
— В укрытия! — скомандовал Остряков и, пропуская мимо себя бегущих рабочих и военных — механиков, мотористов, техников — вместе с Коробковым, не спеша, чтобы не создавать паники, направился к выходу.
— Пикируют! — опять закричал Скворцов, который успел выбежать, увидеть, что собираются делать самолеты, и снова вернуться, чтобы предупредить об опасности.
— Быстрее, товарищи, но без паники! — скомандовал Остряков.
В дверях они с Коробковым задержались, уступая друг другу дорогу, и затем вышли наружу.
И в это время начали рваться бомбы.
Дважды предупредивший их майор Скворцов спрыгнул в первый попавшийся кювет и, полузасыпанный землей, переждал там бомбежку. Группа самолетов, хотя и была небольшой, но сбросила свой смертоносный груз кучно на площадь, где в то утро роковым образом оказались два героических наших командира. Один был душой воздушной обороны Севастополя, любимцем черноморских летчиков, другой пережил в прошлом две большие войны, первую мировую и гражданскую, воевал в Испании и любил шутить, что «еще не изготовили бомбу с его именем».
В Севастополе всего можно было ожидать каждую минуту, бомбы и снаряды падали повсюду, но в гибель Острякова и Коробкова не хотелось верить.
— Не может быть! Наверное, ошиблись, — твердили мы, получив это тяжелое известие. — Да как же так? Остряков только что был в штабе!
Как часто приходилось слышать подобные слова на войне. «Да он только что был здесь!» — недоумевали люди, неожиданно услышавшие о смерти друга или товарища. Сейчас действительно был здесь, а вышел — и попал под снаряд или бомбу.
Так же недоумевали часто и солдаты в окопах:
— Да мы только что с ним курили! Я его сменил, а он пошел в блиндаж!
В блиндаже было безопаснее, но пока друг туда шел, случилось непоправимое...
— Остряков погиб! — сообщил Ермаченков, как обухом по голове ударил. — Попали с Коробковым под бомбы!
— Может, только ранены? — все еще надеясь, спрашивали мы.
— Нет, какое там ранены! Коробкова только по кителю узнали. Прямое попадание!
— А Остряков?
— Ему оторвало ноги!
Гибель Острякова поставила находившегося тогда на Черном море наркома Н. Г. Кузнецова перед необходимостью решать вопрос о восстановлении в должности командующего ВВС флота В. В. Ермаченкова, который одно время эту должность уже занимал.
— Кого вы предлагаете, Семен Федорович? — обратился он к командующему морскими воздушными силами Жаворонкову и, не ожидая ответа, сказал: — Ермаченкова?
— Больше, кажется, некого сейчас.
Но Василия Васильевича, удрученного гибелью Острякова, не радовало и восстановление в должности. Многие за Острякова пожертвовали бы жизнью. Н. Г. Кузнецов так сказал о нем:
— Если бы меня попросили назвать самого лучшего командира и человека среди летного состава Военно-Морского Флота, я назвал бы Острякова. Героизм, скромность, умение, хладнокровие и беззаветная преданность Родине — вот это Остряков!
Кончался апрель, начинался май, а наши аэродромы на Кубани, где были сосредоточены сотни боевых самолетов, все еще не просохли после обильных не по сезону дождей. В Крыму было благополучнее, но здесь у нас оставалось всего два сухопутных аэродрома — Марфовка и Семь Колодезей на Керченском полуострове. Последний, подготовленный еще в мирное время, находился в непосредственной близости от линии фронта и использовался преимущественно истребителями как аэродром подскока.
То, что крымские аэродромы просохли раньше кубанских, имело для нас не только неблагоприятное, а, пожалуй, даже роковое значение. Ведь в Крыму располагалась авиация врага, она начала свои массированные налеты раньше, чем смогли начать мы.
Наше давно готовившееся наступление задерживалось. А гитлеровцы, особенно их авиация, заметно активизировались. Фашистские самолеты большими группами летали и над морем и над сушей. В Туапсе они потопили наш боевой корабль. Они неоднократно появлялись над Новороссийском и в других местах. Эти массированные удары не проходили для гитлеровцев безнаказанно. Враги несли потери, и потери немалые. Из группы в пятьдесят — шестьдесят самолетов часто теряли десять — пятнадцать и даже больше. Но происходило это нередко, когда бомбы были уже сброшены на наши города, корабли, укрепления. С каждым днем становилось все яснее, что враг может опередить начало нашего наступления.
На второй день мая, который был отмечен очередной бомбежкой, я один, без сопровождения, вылетел на «МБР-2» к Канареву в Керчь. В Геленджике остались Попов, являвшийся, как начальник штаба, первым моим заместителем, и полковой комиссар Михайлов. Так сложилось у нас в бригаде, что Попов все время находился на командном пункте, а мы втроем — с комиссаром бригады Михайловым и моим заместителем полковником Владимиром Федоровичем Злыгаревым — постоянно были в Севастополе, Керчи, Поти.
Улетал из Севастополя один — почти сразу же там появлялся другой. Но если Севастополь и Керчь были объектами жаркими, то Поти только теплым в прямом смысле этого слова. За все время я только один раз попал там под бомбежку, но и она не шла ни в какое сравнение с бомбежками Севастополя или Керчи. Бомбы падали где-то вдалеке, да и сброшено их было всего несколько штук. Гудели сирены, вылетали истребители, кудахтали зенитки, но это был не Севастополь!
Вылетая в Керчь, мне пришлось на свой четырехместный самолет взять семь человек. Обычно на боевое задание на «МБР-2» шли один-два летчика, штурман и стрелок-радист. Иногда в перелет брали техника, но при двух летчиках для техника места в кабине уже не оставалось, он устраивался в среднем отсеке между баками. На этот раз сверх всякой нормы я вынужден был посадить еще двух человек.
Состав экипажа был сборный. Я не взял второго летчика — для такого сравнительно небольшого полета он не требовался, — но техник был необходим. Поручить подготовку своего самолета технику какого-либо другого подразделения было трудно. Все техники заняты.
Незаменимым в экипаже являлся стрелок-радист. Именно он мог отбить у вражеского истребителя желание подойти к нам на опасно близкую дистанцию, он же поддерживал радиосвязь с землей. Понятно, что в экипаж входил и штурман. Таким образом, уже набиралось четыре человека. Кроме того, с нами летели начальник политотдела бригады старший батальонный комиссар Миронов с инструктором политотдела и секретарем партийной комиссии.
— Может быть, возьмем только одного из них? — предложил я Миронову.
— Никак нельзя, товарищ командир бригады. Завтра у Канарева мы вручаем нескольким боевым летчикам партийные билеты.
Довод был убедительным, но тут попросился в самолет и начальник особого отдела.
— У меня неотложный вызов! — сказал он. Восемь человек уже никак не вмещались.
— Товарищ командир, разрешите, я полечу за штурмана! — нашел выход Миронов.
Штурман в этом полете мне в общем был не нужен. В Керчь я прилетел бы даже в тумане, но очень важно было иметь переднего стрелка. При встрече с противником штурман управлял передней пулеметной турелью.
— А вы стрелять умеете? — спросил я Миронова.
— Сдал зачеты за штурмана, — сообщил он.
— А как стреляете? С турелью обращаться приходилось?
— Това-а-арищ командир! — с обидой протянул Миронов.
Я оставил штурмана на аэродроме и разрешил занять его место начальнику политотдела.
Справа от меня сел секретарь партийной комиссии, стрелок-радист — на своем месте, в хвосте, и трое — инструктор политотдела, начальник особого отдела и техник — в среднем отсеке. Хотя и тесно, но для военного времени терпимо.
Нормально взлетели, развернулись и на небольшой высоте пошли вдоль берега. Миновали Новороссийск, стали подходить к Анапе. Береговая черта здесь выгибалась к востоку, и это заметно удлиняло путь. Меня, как морского летчика, тянуло в море.
«Чего я туда пойду, на берег? Гитлеровцы летают на сухопутных самолетах. Над морем они не будут так храбры, а над побережьем все равно нет ни одного нашего истребителя», — подумал я и взял курс прямо на Керчь.
От береговой черты путь пролегал в тридцати — сорока километрах. В передней кабине сидел Миронов, человек крупный, атлетического сложения. Я видел, как он методично поворачивал голову то вправо, то влево: вел наблюдение за воздухом. Передний сектор просматривался полностью и был, видимо, обеспечен надежно. Я не знал только, что у Миронова слабое зрение.
По близорукости он и не увидел, что впереди по курсу прямо на нас идет самолет. А может быть, сказалось отсутствие навыка.
Конечно, настоящий боевой экипаж к таким встречам всегда подготовлен. Любая движущаяся точка на небе привлекает его внимание, за ней сразу начинают следить. Свой? Противник?
Увидев самолет, я показал на него рукой сидевшему справа секретарю парткомиссии. Тот понимающе кивнул головой. Большего он сделать не мог — у него в руках не было ни оружия, ни штурвала, только портфель с делами.
Приближающийся самолет по внешности напоминал наш «ДБ-3», но те над морем летали очень редко. Скорее, это фашист.
«Хорошо, не истребитель, — подумал я. — Но к бою надо быть готовым. Если и разведчик, то позовет истребителей».
Видя, что Миронов ничем не выражает своего беспокойства, я попытался привлечь его внимание к самолету, идущему навстречу. Покачал свою машину с крыла на крыло.
Миронов схватился за турель, но в мою сторону не обернулся. Од подумал, что самолет просто «болтануло».
Я качнул еще раз настойчивее и упорнее, но Миронов точно врос в сиденье, крепче сжал своими могучими руками турель.
— Самолет! — передал я ему по ларингофону, но тогда это переговорное средство было малонадежным.
Миронов не разобрал слов, но оглянулся и понял по моим жестам, в чем дело.
Шел самолет противника, — в этом не было сомнений. Он вырастал перед нами хоть и не со сказочной, но вполне приличной быстротой, обыкновенной в авиации: ведь две скорости, наша и его, складывались вместе. Уже не стоило труда определить, что это бомбардировщик «хейнкель-111», который гитлеровцы использовали и как разведчик. Он действительно во многом напоминал «ДБ-3».
«Все же не истребитель!» — утешил я опять себя, но «хейнкель» не в пример тому разведчику, которого мы встретили по дороге в Севастополь, оказался настроенным весьма воинственно. Он направил свой нос на наш самолет, и ясно было, что не намерен пропустить нас без атаки даже на встречном курсе.
У него была возможность вызвать истребители, чего я и опасался, но фашист, видно, не хотел их дожидаться: решил сбить нас сам.
— Стреляй же! — закричал я Миронову, стремясь выйти на гитлеровца так, чтобы мы не были у него строго на встречном курсе.
«Хейнкель» шел несколько выше, и его спаренная передняя установка, направленная вниз и вперед по курсу, могла прошить наш самолет, как швейная машина.
На нашей передней турели был только один пулемет против двух вражеских, но фашист имел и ахиллесову пяту. Его установка разворачивалась вправо и влево всего на 20 градусов. Наша же имела круговое вращение. На большом расстоянии эти 20 градусов обеспечивали гитлеровцу и стрельбу в сторону, но на близких дистанциях он проскакивал, не имея возможности отбиваться от ударов сбоку, тогда как мы могли стрелять по нему.
«Сейчас посмотрим, кто будет купаться!» — возбужденно подумал я, видя, что на опасной дистанции гитлеровец стрелять по нам не может.
Но Миронов, видимо, подумал, что я обратил его внимание на посторонний самолет только любопытства ради. Он пристально смотрел вперед, даже приставил козырьком ладонь ко лбу, но ничего не предпринимал.
Длинная пулеметная очередь, пущенная фашистом, пролетела в нескольких метрах от нашего самолета, параллельно курсу, вызвав частые всплески на воде. Видно, пулеметы «хейнкеля» дошли до упора, повернуть их дальше в нашу сторону летчик не мог.
«Хейнкель» промелькнул у нас слева и почти над головами, показав свои зловещие кресты. Пулеметная очередь нашего стрелка-радиста сразу отогнала его, он бросился в сторону и вверх, но не отказался от боя.
Миронов недоуменно обернулся ко мне.
— Почему не стрелял?! — закричал я ему. Он опять не разобрал слов, но мог без труда различить в моем голосе раздражение и досаду.
Пропустить первый выстрел! Обидно, когда он бывает неудачным, но и неудачный все равно подействовал бы на противника и охладил его пыл. А здесь? Что решил гитлеровский летчик? Что мы стрелять не можем? Но тогда он еще больше обнаглеет и увидит в нашем самолете только жертву, которую постарается не упустить. «Правда, от огня хвостовой турели он все-таки шарахнулся, как испуганная лошадь!» — утешал я себя и закричал Миронову:
— Готовь пулемет!
«Хейнкель» развернулся от нас в море, вправо от своего курса. При развороте влево он получил бы добавочную порцию от нашего хвостового пулемета. Я взял курс прямо на берег. Все-таки он был своим, хотя и далеким еще: мы отошли от суши километров на сорок — пятьдесят.
Скорость нашего самолета уступала скорости «хейнкеля», — вражеский самолет был более позднего выпуска.
«Подставить ему хвост? — размышлял я над возможностями воздушного боя. — Назаров отобьется!» Наш стрелок-радист отлично владел своим оружием. Но это значит, что гитлеровец будет на нас нападать, а мы — только обороняться! Здесь! Около своего дома! А в своем доме и стены помогают.
Следовало подумать и о спаренной пулеметной установке «хейнкеля». Ее огневая мощь по сравнению с нашей была почти удвоенной. Почти — имея в виду несколько большую скорострельность наших пулеметов. Еще следовало подумать о свободе маневров у противника. Нападал он, а не мы, выбирал позицию и заходил в атаку так, как ему удобно. Он мог зайти точно в хвост нашему самолету, и тогда хвостовое оперение помешало бы Назарову стрелять, — «хейнкель» оказался бы в нашем «мертвом конусе».
Нет, очевидно, фашисту надо было навязывать бой на встречных курсах: короткие моменты расхождения, обмен пулеметными очередями — и весь маневр противника перед нашими глазами.
Накренив самолет для «змейки» и оглянувшись назад, я увидел, что «хейнкель» заканчивает разворот и выходит на курс, чтобы преследовать нас. Сделав «змейку» в обратную сторону, чтобы сохранить основное направление, я оставил его сзади себя.
Сближение, хоть и не такое быстрое, как на встречных курсах, было все же заметным.
— Готовься! — крикнул я Миронову и заложил крутой вираж навстречу вражескому самолету.
Держа его слева от себя, прижавшись к самой воде, — с наших турелей как штурману спереди, так и стрелку сзади было удобнее стрелять вверх, — я пошел во встречную атаку, следя, чтобы в решающий момент наиболее близкого расхождения гитлеровцу было бы неудобно или — еще лучше — невозможно довернуть свои установки на наш самолет.
— Целься! — крикнул я еще раз Миронову. Он как-то необычно направил пулемет на противника. Вместо того чтобы утвердить подбородок на рукоятке, держал ее на уровне груди. Ствол был круто поднят вверх. Огненная струя, выпущенная Мироновым, как дугою, обогнула вражеский самолет и рассыпалась дробью по водной поверхности. Очередь была длиннейшая. Миронов вел огонь, пока пулемет не смолк сам, — его заело. Он ведь не был рассчитан на такую долгую стрельбу.
— Переведи рукоятку! — приказал я жестом. Он попробовал это сделать, но безуспешно.
Расходясь с «хейнкелем», я опять накренил самолет в вираже, чтобы Назарову было удобнее стрелять даже над крылом самолета.
Опять фашист шарахнулся в сторону. В середине виража я накренил самолет почти вертикально, едва не задевая крылом воду. Фашист сделал половину разворота, а я уже шел к берегу. Повторный маневр сократил расстояние до берега почти вдвое. «Хейнкель» заканчивал вираж, выходя на попутный нам курс, но мы его значительно опередили.
Было похоже, что для новой атаки он разворачивался уже не так охотно. Все-таки он снова пошел за нами, стал настигать. И опять, как только ему хотелось бы начать стрельбу, мы сделали крутой выход ему навстречу и с таким углом, что его передняя установка совсем не могла вести огонь.
Правда, молчал и наш пулемет, но гитлеровец, не ожидая, когда он заговорит, первым начал разворот. Я тоже не стал медлить и, чтобы не разойтись так быстро, как в первые атаки, накренил самолет в его сторону.
Назаров получил хорошую, хотя и кратковременную, к сожалению, возможность обстрелять врага. Он не преминул ею воспользоваться. Его трассирующая струя полоснула сверху вниз и пересекла крыло фашистского самолета вблизи левого мотора. «Хейнкель» выпустил струю дыма. Если бы она была черной — это верный признак начавшегося пожара, но струя оказалась белой. Назаров, видимо, пробил баки.
Победа была наша, но противник, хотя и подбитый, уходил в сторону Крыма.
— Догоним! Добьем! — воодушевились пассажиры. Но догнать «хейнкель» мы бы не смогли.
В Керчи нашлись очевидцы нашего поединка. Летчик самолета «У-2», летевший из Анапы, наблюдал все происходившее и подтверждал, что «хейнкель» задымил, а после этого его не стало видно.
Для всех, кто летел с нами, исключая стрелка и меня, это был первый воздушный бой. Им хотелось верить, что он завершился полным поражением противника. Должно быть, они и поверили в это. Что значит «почти сбили»? Конечно, сбили!
А сбить, разумеется, могли, окажись Миронов более опытным стрелком. Я знал немало политработников, которые великолепно вели воздушные бои, увлекая других не только словом, сказанным на земле, но и личным примером в воздухе. Но Миронову до того выполнять обязанности стрелка не приходилось, а усвоенное перед сдачей экзаменов со временем забылось. Мог ли я винить его? Скорее следовало пенять на себя, что оставил штурмана на аэродроме.
Падение Керчи
Для освобождения Таврического полуострова был создан Крымский фронт, возглавлявшийся генерал-лейтенантом Д. Т. Козловым. На небольшом Керченском полуострове сосредоточивались большие силы: свыше полутора десятков стрелковых дивизий, две кавалерийские дивизии, четыре танковые дивизии. Стремление наступать настолько овладело умами, что о необходимости обороны как-то не хотелось и думать.
Даже расположение войск, правильное для наступления, на случай обороны было неблагоприятным. При контрнаступлении зимой противник, взявший Феодосию, вклинился в наши позиции, хотя и узкой полосой, почти до Турецкого вала. Словно бы нож был засунут в щель. Вытолкнуть, уничтожить его не удалось. На этот нож давила большая тяжесть — свыше десяти дивизий, которые, однако, не вели пока активных действий, а перед острием оказались не лучшие наши части, — еще не обстрелянные, не слишком обученные. При нашем наступлении это был бы неплохой второй эшелон. Но в обороне частям не хватало опыта.
Между тем наступать собирались не только мы. Готовился и враг. Опередив наше наступление буквально на несколько дней (а оттягивалось оно, как уже говорилось, помимо всего прочего, из-за раскисших на Кубани аэродромов), фашисты, используя нож, уже засунутый в щель, почти сразу же повернули на север и, выйдя к Азовскому морю, отрезали основные наши части от Керчи. Выбрасывая ночью парашютистов и высаживая с моря чуть не по всему побережью одиночек и небольшие группы с ракетами, противник создавал представление, что высажены большие силы, что наши войска окружены.
Фашистские самолеты работали с максимальной нагрузкой. Авиация врага ежедневно совершала до тысячи восьмисот самолето-вылетов. Если учесть, что девять десятых из этого числа падало на дневное время, станет очевидным, что в отдельные часы количество самолетов, висевших над нашими войсками, доходило до двухсот и даже более. Огромные стога взрывов, возникавшие сразу во многих местах, буквально не успевали опадать, дым и пыль застилали весь горизонт.
Но это мы увидели немного позднее. Вначале на озере Тобечик, где базировался Канарев, бои, шедшие на передовой, непосредственно пока не ощущались. Возвращавшиеся из боевого полета летчики докладывали о горящих танках, о непрерывной артиллерийской канонаде, о работе наших «катюш» в разных местах.
Что идет крупное сражение, ни для кого не было секретом. Но кто наступает и кто обороняется?
О вражеских десантах, высаженных в глубине расположения войск, стало известно к концу первого дня.
Они появились на Черноморском побережье в районе мыса Чауда на юге, на Азовском побережье в районе мыса Казантип с севера, а также в ряде других пунктов полуострова.
В одну из следующих ночей много вражеских самолетов появилось над Керчью. Соседняя зенитная батарея часто обозначала себя, выпуская длинные разноцветные трассы снарядов.
Стала яснее вырисовываться обстановка на передовой. При успехе наших войск вражеская авиация в этом районе не была бы так активна: ей хватило бы забот и на линии фронта.
— Фашисты взяли Марфовку! — тревожно сообщил рано утром начальник штаба полка, когда мы с Канаревым прибыли на командный пункт.
— Откуда это известно?
— Из штаба базы.
Марфовка была всего в двадцати километрах на запад от нас, а двадцать километров для танков — это полчаса хода.
Позвонили еще раз в штаб базы и выяснили, что на аэродром в Марфовке противник высадил воздушный десант. Несколько самолетов, готовых к вылету, самостоятельно снялись с места и перелетели на Кубань.
Как бы там ни было, для полка Канарева создалась непосредственная угроза.
— Надо спустить на воду все самолеты и предупредить о вылете по ракете! — сказал я Канареву.
— Товарищ полковник! Лейтенант с передовой! — прибежал запыхавшись один из офицеров штаба.
Вместе с Канаревым мы отправились от спусков опять на командный пункт.
Лейтенант был, однако, не с фронта. Офицер одной из тыловых частей, он направлялся ночью на машине с грузом на передовой пункт снабжения. Доставив все до места и подъезжая на обратном пути к Марфовке, он увидел парашютистов и услышал шум боя. Повернув назад, встретил группу бойцов, которые, взобравшись на его машину, просили «тикать, пока целы».
Машина двигалась по бездорожью, пока днем не попала на прицел какого-то фашистского истребителя. Они вились в небе, как пчелиный рой. Люди бросились из машины врассыпную, а она сразу загорелась от длинной очереди, которую истребитель дал из своих пулеметов и пушек.
Зная, что до Керчи не менее тридцати километров, лейтенант пошел со своей командой, состоявшей из двух матросов, строго на восток, где поблизости стояла батарея морской береговой обороны. На нее он и хотел выйти, но вместо этого наткнулся на наш дозор, который уже имел приказание задерживать отходящих в одиночку или мелкими группами бойцов. Лейтенант был доставлен на командный пункт.
— Вы убежали с передовой! — кричал на него один из работников штаба, майор Зайцев.
Зная, чем грозит такое обвинение, лейтенант не возмутился, а скорее испугался, как пугаются роковых совпадений; человек невиновен, но его видели около убитого.
— Нет, нет, товарищ майор, что вы? Я возвращался в Керчь! Я не бежал! — начал он оправдываться.
Должно быть, ему не стало веселей, когда он услышал резкую команду «смир-р-рно» и двух входящих полковников.
— Где ваши люди? — спросили мы лейтенанта, выслушав объяснение.
— Шли все время со мной.
Его матросы были в это время в нашей караулке. Мы решили отправить лейтенанта на попутной машине в Керчь, а двух матросов оставили для обороны аэродрома. Тут каждый человек был дорог.
Таким образом, опрос лейтенанта «с передовой» не внес ничего нового в обстановку.
— Соединитесь с Ермаченковым! — приказал я оперативному дежурному.
Но почти получасовое ожидание ни к чему не привело. Связи не было.
В создавшейся обстановке держать полк на аэродроме стало уже рискованно, но и сняться самовольно мы не имели права.
— Будем ждать! — решили мы с Канаревым. Его положение было все-таки легче. Он ждал распоряжений своего командира, который стоял рядом, а мне приходилось решать нелегкую задачу.
Каковы дела на передовой, мы точно не знали, но враг был близко. Достаточно одному взводу танков прорваться к аэродрому — и он мог расстрелять все наши самолеты. А уж рота это сделала бы наверняка. Но, с другой стороны, прорыв могли и ликвидировать, а десант в Марфовке уничтожить. Зачем же тогда поднимать полк?
Ожидание продолжалось, пока из штаба базы официально не сообщили о прорыве фронта. Больше ждать было уже нельзя.
— Переправляйте самолеты в Керчь! — распорядился я.
Перелет в Керчь, где находился другой наш аэродром и где уже базировалась одна из эскадрилий Канарева, нельзя было расценить как отход, скорее — обычное маневрирование аэродромной сетью. От Геленджика Керченский аэродром был даже несколько дальше, чем Тобечикский, а от фронта они отстояли одинаково. Защитники же самой Керчи появление наших самолетов могли расценить как подброску подкрепления.
Но вылететь оказалось не так просто.
— Керчь закрыта туманом! — сообщил оперативный дежурный.
Что значит садиться в тумане — известно не только авиаторам.
— Где граница тумана?
Туман начинался почти сразу на нашем морском побережье, лишь немного севернее.
— Он стелется или приподнят?
— Немного приподнят. Это было утешительно.
— Спросите штаб базы, есть ли у них суда на открытом рейде и где?
Запрос не занял много времени.
Оказалось, обстановка на рейде за последние сутки не изменилась. Суда подходили сразу к стенке и после выгрузки, не задерживаясь, отправлялись за новым грузом.
Аэродром располагался на восточном берегу бухты, и его акватория была свободна.
— Как вы смотрите, Виктор Павлович, если выпустить летчиков поодиночке? За перешейком пойдут бреющим, с посадкой по тому же курсу через пять — семь минут.
При тумане обычно бывает штиль, так как любой, даже слабый ветер разогнал бы туман. Поэтому на высоте бреющего полета скорость, показываемая приборами, не требует поправки. То же и с курсом: каков курс — таков и путевой угол. Никаких сносок ни вправо, ни влево. Посадку тоже можно делать прямо по курсу. Как летишь, так и садись. Не надо разворачиваться против ветра — его нет.
При скорости сто восемьдесят километров в час за семь минут самолеты пройдут двадцать один километр. Это как раз соответствовало расстоянию до Керчи.
— После посадки рулить? — спросил Канарев.
— А смогут?
Канарев ответил утвердительно.
— Тогда предупредите Набутовского и начнем перелет.
Набутовский был командиром эскадрильи, базировавшейся в Керчи.
Распоряжение последовало незамедлительно. Виктор Павлович, сев на катер, пошел предупредить первый экипаж:
— Сразу же за перешейком разворот на курс восемнадцать градусов. Бреющим семь минут. Посадка и рулежка до аэродрома или берега. Там станете на якорь.
Все самолеты, готовые к вылету, получили это распоряжение от Виктора Павловича лично, с катера, и последовательно, с пятиминутным интервалом, нельзя сказать, что поднялись в воздух, а просто оторвались от воды и пошли на Керченский аэродром.
Операция заняла примерно час. О большинстве самолетов было сразу же получено сообщение с командного пункта Набутовского, но о некоторых пришлось потревожиться: где они, мы не знали.
— Ничего, все будет в порядке, — заверил Виктор Павлович. — Сели у берега. Туман приподнимется еще — подрулят.
Так и произошло. Все самолеты благополучно передислоцировались, не потеряв своей боеготовности.
Мой самолет был в Керчи, и, отправив полк, я с аэродрома Тобечик поехал на машине в город.
— Вас спрашивает командующий, — сказал мне на КП оперативный дежурный.
Связь установили по радио, говорить можно было через связиста.
— Командующий спрашивает, знаете ли вы обстановку и что предпринимаете?
Узнав, что Канарев со своим полком находится в Керчи, Ермаченков выразил беспокойство, не слишком ли много здесь скопилось самолетов.
— Такую кучу если бомбить, то что ни бомба — два попадания!
— Керчь скрыта туманом, враги нас не видят, да и не летают пока.
Разговор закончился тем, что нас ориентировали на перебазирование в Геленджик.
— Решение о переброске Канарева уже принято, но в Геленджике сейчас тоже туман. Как только он рассеется, будем вас принимать! — сообщил Ермаченков.
— Когда туман рассеется, нам не дадут взлететь немецкие истребители.
— Так что же вы предлагаете? Сидеть здесь до ночи? Вас перебьют с воздуха и с земли, враг вот-вот будет под Керчью!
— Канарев перелетел в тумане в Керчь. Он так же перелетит и в Геленджик!
— Хорошо. Но взлетайте вначале сами и, если нельзя будет сесть в Геленджике, садитесь в Туапсе.
Пока происходил весь этот разговор, с озера Тобечик поступило тревожное известие: фашистские танки вышли на аэродром и, обстреляв траншеи, повернули в Керчь!
Положение становилось еще более напряженным. Хорошо, что мы вовремя перебазировались в Керчь, но теперь следовало уходить и отсюда.
Я отправился на аэродром и взлетел под туманом с южным курсом. По-прежнему было безветренно. Не пробивая тумана, я вышел из него в открытом море. Белая пелена высотой метров до двухсот стлалась вдоль берега в юго-восточном направлении. Таманский полуостров был закрыт наполовину, дальше на суше виднелись просветы. Крым, начиная с мыса Такыл, откуда берег резко поворачивает на запад, к Феодосии, был весь открыт. Белые кружевные полосы небольшого прибоя оживляли пейзаж, и не хотелось верить, что тут идет разрушительная война.
Взяв курс на Анапу, я пошел над туманом, рассчитывая в случае опасности на его прикрытие, хотя сейчас в передней кабине сидел боевой штурман из полка Канарева, летевший в Геленджик для организации приема самолетов. Этот штурман мог бы дать должный отпор воздушному противнику.
Впереди по курсу уже вырисовывались громадные глыбы Кавказских гор, забраться на которые туману было не под силу. Закрыв их подножие, пелена тумана дальше рвалась на куски. Вначале крупные, как будто раскололась большая льдина в половодье, затем все мельче и мельче. На середине горы обессиленно оседали лишь небольшие лоскутки. Облака же, занесенные ночью на вершины, не удерживаясь на них, сползали вниз и тоже рассеивались на полпути.
Новороссийская бухта была отчетливо обозначена окружающими ее горами, но накрыта туманом, как простыней.
Такую же картину я увидел и в Геленджике — бухта под белой простыней, а мыс Толстый на южной стороне просвечивал сквозь туман. Северо-западная и западная часть побережья, более высокая, чем южная, была открыта полностью. И, что самое главное, виднелась даже вышка недалеко от командного пункта и штаба бригады.
Две горы — Дооб и Плоская — служили прекрасным ориентиром не только для определения местности, но и для захода на посадку. После разворота возле горы Плоской, держа курс на мыс Толстый, можно было войти в туман посредине бухты и, полого снижаясь, коснуться воды. Левый разворот и полуминутная рулежка приводили к береговым спускам.
Большой туман пробивать таким способом было бы рискованно, но тонкий, метров в семьдесят — сто, вполне возможно.
Сделав обычный заход с левым кругом, я пошел на снижение и, только когда альтиметр показал сто метров, стал задевать парообразную холодную пелену, которая быстро окутала меня.
Обычно при крутом снижении альтиметр запаздывает метров на двадцать — тридцать (при пикировании даже больше). Но мы снижались полого, при слегка уменьшенных оборотах мотора, и запаздывания альтиметра почти не было. Пробиваемый слой тумана составлял метров семьдесят — восемьдесят. При снижении со скоростью один метр в секунду можно было через минуту увидеть водную поверхность или, не увидев, без особой опасности коснуться ее и только в этот последний момент убрать газ. Машина, даже сделав «барс», не ушла бы высоко в воздух — «барс» пологий. Продвижение вперед в тумане вслепую не превышало двух-трех километров. Бухта же была в несколько раз больше.
Заходя на посадку, я обратил внимание на командную вышку: если держать ее по правому борту градусов на сорок пять — пятьдесят, пробег должен закончиться на середине бухты.
«Хорошо бы сообщить это летчикам!» — подумал я. Но как? Такие подробности можно рассказать на инструктаже перед полетом, а не по радио, да еще кодом, который тогда применялся во всех случаях, часто без особой надобности. Лишь в следующем году перешли на открытый текст.
«Ничего. Если кто зайдет слишком далеко, за берег не заденет, а будет перетягивать, дадим ракету — безотказное, испытанное средство».
Поверхность воды обнаружилась хотя и неожиданно, но раньше, чем самолет прикоснулся к ней, и, убрав газ полностью, мне удалось плавно посадить машину на тихую воду. Держа направление на спуски, я подрулил к берегу, выключил мотор и, вызвав с помощью мегафона катер, приготовил якорь, чтобы стать на него, если самолет понесет к берегу.
Все обошлось благополучно. Катер стоял наготове и быстро вышел нам навстречу. Мы его несколько раз окликали, пока нос катера не вылез из белой ваты тумана.
— На спуске! — перешли мы на другую команду, когда самолет был взят «за усы».
— Есть на спуске! — слышалось вначале отдаленно, потом все ближе и ближе.
Наконец обнаружился и сам спуск.
— Готовиться к приему!
Эта команда относилась к водолазам, стоявшим по пояс в воде.
С командного пункта я мог связаться с Ермаченковым уже по телефону.
— Вполне можно принимать, — сказал я.
— Метеорологи сообщают, что скоро туман рассеется.
— Тем лучше, посадку будут делать нормально.
— Но в Керчи он постоит еще два часа.
— Если туман там рассеется, станет хуже — враг не упустит возможности для налета.
Приказ был дан.
Условия перелета Виктор Павлович уже проработал с летным составом. Летчики заняли свои места в самолетах, и первый из них взлетел. Интервал между вылетами был установлен десять минут.
Немногим больше чем через час мы в Геленджике услышали шум мотора, а вскоре увидели и самолет.
Зайдя тоже с левым кругом возле горы Плоской, он начал последний разворот и лихо, как в обычных условиях, пошел на посадку.
Расчет был абсолютно точен, но снижение для тумана крутовато.
— Ничего! — успокоил стоявший рядом со мной на вышке Попов. — Вы сами так подходили.
— Я подошел на моторе!
— Мы не слышали, думали, планируете как обычно.
Самолет тем временем вошел в туман. Несколько секунд ничего не было слышно.
«Если авария, долетит до нас треск?» — подумал я. Попов задавал себе этот вопрос уже вторично. Первый раз такая мысль мелькнула у него, когда на посадку заходил я.
Р-р-р-р-ж-жу-у-у-у-у! — послышался сильный звук мотора.
— Ну, все в порядке! Рулит!
— Кто прилетел?
— Мусатов. Командир эскадрильи.
Через несколько минут Мусатов появился возле меня на вышке, а в это время уже было слышно гудение следующего самолета.
— Товарищ командир бригады... — начал Мусатов.
— Хорошо, хорошо! Давайте следить за посадкой. Опять тревожные секунды. Теперь мы пережидали их уже втроем, и опять радующий сердце звук мотора: р-р-р-р-ж-жу-у!
— Как в Керчи? — обратился я к Мусатову, когда гудение возвестило о нормальной рулежке.
— Фронт рушится! — сокрушенно сообщил он. Что было сказать на это?
— Туман еще не рассеялся?
— Нет, но стал заметно реже. Скоро рассеется, наверно... Сейчас уже взлетает Набутовский, а если прояснится, Чернов взлетит и приведет всех строем.
Чернов был командиром третьей эскадрильи. Вместе с нею должен был прийти и Канарев.
Строем им взлетать не пришлось. Туман стал совсем уже редким, и последние самолеты Канарев выпускал не с десяти-, а с пятиминутным интервалом, а потом и еще сократил его. Это ускорило вылет. Когда самолеты пришли в Геленджик, бухта очистилась. Посадку можно было полностью наблюдать с вышки без всякой тревоги за исход.
Эвакуация Керчи проходила в тяжелейших условиях.
Последний батальон оставил Керчь, бросившись вплавь через пролив. Люди хватались за любой способный держаться на воде предмет — доску, пустую бочку, автомобильные камеры, которые первая же пуля превращала в ненужный хлам. Телеграфные столбы были драгоценностью. Их выворачивали из земли, сбрасывали в воду и цеплялись за крутящееся бревно, спеша покинуть пылающую землю.
Нельзя без горечи вспоминать быструю сдачу этой базы. Ведь держался же Севастополь восемь месяцев, имея за спиной открытое море! А здесь? Узкий пролив, через который можно было бы непрерывно снабжать осажденный порт. Тылы канаревского полка — база снабжения, мастерские, санитарная служба — успели, хотя и не полностью, переправиться на пароме. В Геленджик они приехали на машинах, своим ходом. Другие прибывали на кораблях, баржах. Несколько дней и ночей они находились под открытым небом. Помещений и палаток не хватало даже для раненых.
Источник