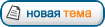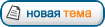Глава 7
Ночью в три часа тревога. Вначале думали, очередная учебная. Нет — пахнет настоящим делом.
Пермяков, старший врач, объявляет:
— Быстро получить на складе обмундирование... И продукты. Имущество грузить на подводы.
Холодно, сыро. Спросонья на воздухе пробирает дрожь. На ходу в темноте ополаскиваю лицо ледяной водой из бочки.
Спешим к складу. А там — толкучка, галдеж. Нужно же, перед самым маршем додуматься обменивать обмундирование.
— Вот паразиты... Не могли вчера это сделать,— зло ворчат в толпе.
На складе ни черта не видно. Два фонаря — один у кладовщика, другой у того, кто просматривает и записывает вещи в аттестат и солдатские книжки.
Получаю шапку-ушанку, нижнее белье и диагоналевые брюки.
Продукты выдают на три дня. Консервы — тушенку или американскую колбасу — по банке на брата. Сухари, галеты, сахар. По бутылке водки на двоих, пачку табаку.
Полк выступил под утро. Движемся в темпе, хотя идти нелегко: песок. Но мы перед этим неплохо отдохнули. Ветер подгоняет в спину. Степь мне кажется другой, чем тогда, когда я шел с направлением в полк. Тогда — унылая, безлюдная, смурая. А сейчас ожила. Воздух наполнен ревом моторов. Как угорелые носятся «ястребки». Через равные промежутки с грозным рычанием пролетают тяжелые бомбардировщики. Скрипят повозки. Слышатся крики ездовых. Бряцание оружия. Топот сапог. Стук котелков. Фырканье автомашин.
А в груди чувство тревожно-восторженное. Началось! Началось! Началось!
Полк вытянулся в двухкилометровую колонну. Нас около двух тысяч. Медицина в хвосте. Большая часть медицинского имущества на подводах, укрыта брезентом. Часть несем на себе.
Рядом со мной идут: слева — Дронов, справа — Мишка Рыжий. Дронов кривоногий — семенит мелкими шажками, иногда смешно, вприпрыжку, сбиваясь с ноги.
Туда-сюда вдоль колонны колесит потрепанная эмка. В машине полковник Нефедов. Вижу крупное загорелое лицо с раздвоенным подбородком, шапку с золотым крабом. Машина притормаживает. Нефедов высовывает голову.
— Дронов, ты чего это не на подводе? — спрашивает он басом.
— Ходули свои еще тянут, товарищ полковник,— отвечает польщенный Дронов.
— В машину не хочешь?
Лицо Дронова вытягивается.
— А я чего, проштрафился? Стружку снимать?
Батя улыбается. Едет дальше.
Мишка Рыжий поясняет:
— У Бати привычка такая. Кто проштрафился — в машину, и так тебя там пропесочит... Без крика... Спокойно. Лучше бы накричал.
Поднимаемся на холм. С высоты хорошо видно, как в растянувшейся ленте колонны колышутся шапки, мичманки, пилотки. И кубанки: красные, малиновые, черные; кожаные, суконные, мерлушковые. Кони тянут орудия, повозки с боеприпасами, кухни.
На конях — наши два комбата. Чайка — на белом холеном жеребце.
— Красавец писаный! — восхищается Дронов.
Чайка на коне действительно как картинка. Сидит подбористо, легко. На груди бинокль. Хромовые сапожки с короткими голенищами обтягивают мускулистые икры. Он небрежно похлестывает плеткой по сапогу. Комбат 2 майор Железнов — косая сажень в плечах, в кожанке, тяжел — под ним крупный конь чуть не прогибается. А Радченко, самый старший из комбатов, угрюмый, нахмуренный, едет на подводе — нога после Бугазской еще не зажила.
Лошади в полку появились давно. В сорок втором, когда бригада отступала. Проходили через кубанские станицы, а там конефермы. Колхозники, чтобы не оставить немцам, пригнали табун в бригаду.
— Тогда у нас каждому по коню досталось,— вспоминает Рыжий.— И бидарка или арба. И девчат мы с собой прихватили. Из Краснодарского мединститута эвакуировались... Потом девчата так и остались в бригаде... Раечка — медсестра, Копылова — доктор.
...Все идем, идем. Небо затягивает тучами. Начинает моросить дождик. Песчаная дорога темнеет. Справа наплывает, обозначается курган — рыжий, облезлый.
— Пужай-могила,— говорит кто-то из солдат, идущих впереди, показывая на курган. Видно, солдат из здешних мест.
— Кого кто пужает, Витрук?
— Стари люды казалы, як произджалы на волах, так отутечко, у цьому мисци, у савани прывидение выходыло... И пужало...
— Сказки про белого бычка,— машет рукой Рыжий.
— А может, и правда,— вставляет Дронов.— Пустынь сущая... Мертвякам только и место. Ну, как здесь жить? Вот у нас в Осколе. Речка, лес!.. А сады какие — загляденье!
— Такэ говорыть, що и собака з маслом не зьисть,— сердится солдат.— Тут край богатющий! Рыбу рукамы ловы. Загородку з камыша в ерику зробиш, на байди пидплывай и черпаком... Карпы, чебакы, жерехы по пять — сим кил... А дыни — дубивкы, а вынограду, а вышни... Иж досхочу. А балык у Темрюку...
— Водочки за три пятнадцать и балычком закусить бы, а, Дронов? — подмигивает Рыжий.
— Балык — стоящая штука,— соглашается Дронов.— А все ж таки я бы здесь не жил. Соловьев нету...
Впереди меня, сбычившись, идет Давиденков. Он в ватнике. Плечи коромыслом. Нагрузился, как верблюд. Тащит две пары носилок, сумки, сундук. И гранатами обвешался.
— Будут гранаты — будет и харч,— мычит он, что-то жуя.
Смотрю на его мощную шею, плечи и вспоминаю дядю Павлушу. Вчера я получил сразу два письма — одно из Енакиево, отец уже дома, а второе от мамы с Урала — она с братом Вовкой пока остается там. Отец пишет: немцы зверски убили дядю Павлушу. До войны мы жили вместе, в одном дворе. Павлуша — это муж маминой сестры. Он работал на Софиевском руднике крепильщиком. Силища необыкновенная — мог поднять телеграфный столб. Он остался в Енакиево по заданию горкома партии. Сосед выдал... Бухгалтер, такой тихонький. С его сыном Жоркой я еще дружил. Так вот, при немцах этот тихонький бухгалтер — можно ли было подумать — стал помощником бургомистра. У дяди Павлуши при обыске нашли гранаты, винтовки... Его жестоко били в гестапо... Колонну арестованных гнали мимо нашего дома. Ленка, его дочь выбежала передать хлеба немного, а немцы прикладами. Дядю Павлушу вначале загнали в лагерь под Горловкой, а потом живым бросили в шурф...
В полдень привал. Перекусили. И опять в путь. Отмахали уже километров пятнадцать. Начинаем уставать. Несмотря на то, что я в легких сапогах — ступни как обожженные. И плечи стали свинцовыми. Аня, маленькая толстушка, в своих не по размеру кирзачах едва ноги передвигает. Сажаем ее на повозку. А каково пэтээровцам? У них плечи гнутся под «Петром Великим». Или минометчикам, которые на себе несут опорные плиты да еще на плечах, как винтовку, штыковую лопату... Пулеметчики волочат по песку на лямках свои пулеметы... Одному Давиденкову хоть бы хны.
— Я рояль раз сам тащил,— говорит он.
— А кроме рояля что-нибудь еще таскал — сколько об этом говоришь?
— Мешки с мукой и уголь грузил... И доски, когда грузчиком на промкомбинате работал.
Сильно потеет лоб. Вытираю рукавом. Дронов поглядывает на меня, достает из кармана гимнастерки платок.
— Доктор, хотите, подарю?
Вот чудак старина. Трогательно... Платочек маленький, обмереженный. Подарок принимаю. Немного погодя Дронов признается:
— На земле я ни шута не боюсь. А к воде сызмальства у меня страхи. Ну ее! Всё сом окаянный. Мальчонкой-сопляком на речке, на Старом Осколе, у берега бултыхался, а сом подкрался и хвать меня за левую пятку и под воду. Саженей сто протащил... Бабы, девки кричать стали, а я, видать, тяжел был для сома — и он бросил добычу. Всю шкуру на пузе содрал, как рашпилем. И на ноге отметину, свои зубья, оставил.... С той поры страхи.
— Ну, а как сейчас? Может, придется искупаться... Море!
— Тут разговору никакого быть не может. Все идут. Это я так, по расположению к вам рассказал.
Ребята говорят, что мы движемся к Тамани. Меж холмов впереди все время голубеет. Кажется, что море. Подходим ближе — никакого моря нет. Просто небо в просветах среди туч голубело.
— Памятник в Тамани запорожским казакам видели? — спрашивает меня Рыжий.
— Нет, не видел.
— С саблей казак стоит. И надпись, в точности не помню, но вроде: будем верно служить, турков бить и горилку пить.
— Здорово. Только надпись нужно переделать,— говорит кто-то из рядов.— Горилку глушить и фрицев бить.
— Как возьмем Керчь, вот сабантуй устроим...
А я думаю о Лермонтове.
В нашей армейской газете писали, что музей Лермонтова в Тамани немцы разграбили, спалили. Староста так и сказал: «Если бы Лермонтов жил сейчас, то он был бы большевиком». Шкура!
Сколько лет было Лермонтову, когда он в Тамань примчался? Пожалуй, как мне, двадцать один. В бурке, приземистый, с черными как уголь глазами. Ожидал попутное судно, добирался в действующий отряд на геленджикскую кордонную линию. А пока ожидал — сколько приключений!
Контрабандисты. Девушка с развевающимися на ветру волосами. Песня о корабликах... Кораблики! Кораблики!
Спотыкаюсь и чуть не падаю. Размечтался.
К вечеру тучи заволакивают все небо. Дождь усиливается. Ветер резкий, холодный, бьет в грудь и лицо.
На Тамань мы не пошли — резко свернули на юго-запад. Месим грязь глинистую.
— Чего так людей мордуют,— ворчит санитар Плотников,— командиры мне тоже...
Он всегда чем-нибудь недоволен. Хорошо, плохо, все равно ворчит. Правда, сейчас мы все устали. Сам бы тоже поворчал.
— Морем пахнет,— шмыгает носом Рыжий,— значит скоро — стоп!..
Точно. Водорослями, рыбой потянуло... Еще плетемся с полчаса. И наконец остановка. Прямо в степи. К счастью, здесь много готовых землянок и щелей. Разбредаемся. С Дроновым подыскиваем блиндажик. Вползаем на животе — такой узкий вход, но внутри неплохо — тепло, сухо. Пол травой выстлан.
Отдыхаем. Дронов зажигает коптилку и начинает ворошить содержимое своего вещмешка: байковые портянки, белье, консервы. Вытаскивает всякую мелочь. Раскрывает плоскую трофейную коробочку из-под масла.
Там целый магазин: пуговицы, пряжки, лезвия, нитки, иголки, огрызок карандаша, зеркальце, зубной протез. И медаль «За боевые заслуги». Подержит в руках каждую вещицу, побормочет что-то и назад кладет. Глядя на него, я тоже поднимаюсь, вынимаю свое барахло, перебираю. Для чего? И сам не знаю. Может быть, инстинктивно... Прощаемся.
— Внучек у меня есть,— бормочет Дронов.— Сашок, Александр Сергеевич... Мы его Пушкиным прозвали. Смышленый — у него две макушки... На баяне играет. Песню какую услышит — в момент подберет...
Я его почти не слушаю... Говорить не хочется. Вынимаю томик Лермонтова, тетрадку с моими стихами. Просматриваю старые письма. Маленькие фото для паспорта. Продолговатое личико, тоненький носик, гладко зачесанные волосы стянуты на затылке ленточкой... Эту карточку Нина подарила мне в школе, на переменке, на лестнице. А перед тем, за два дня, всей школой ходили в культпоход на фильм «Аэроград». С экрана в темный зал врывались с ревом самолеты, самолеты. Но было не страшно.
А Нина сидела рядом теплая, близкая, и ее ладошка лежала в моей руке.
Как все меняется! Теперь настоящие самолеты-бомбардировщики тяжело гудят в ночи. А Нина — только воспоминание далекое, неосязаемое...
Колька просовывает в блиндаж патлатую голову.
— На... гранаты — сует он четыре чешуйчатые лимонки и запалы. Еще дает листовку — обращение командующего армией к десантникам.
«Родина приказывает опрокинуть и разгромить...»
Тяжело ухает. Совсем недалеко. Блиндажик вздрагивает. На голову сыплется песок.
— Наши дальнобойные.
— Через пролив по крымскому берегу... Ух, дают! — говорит Колька.— Там уже вроде Нижнегорская дивизия высадилась...
— А мы когда?
— Команды пока нет. Я в штабе кручусь... Но, сам понимаешь, каждую минуту...
Колька выползает, а мы с Дроновым засыпаем, хотя пушки все бьют. Спим часа три крепко, без сновидений.
— На погрузку! Вставайте! — дергает меня кто-то за ногу.
Вскакиваю. Это Мишка Рыжий. Бужу Дронова. Рассовываем гранаты по карманам. В руки — мешки. Вылезаю я, потом Дронов. Через пять-шесть минут звено в сборе, только Мостового нет.
— Где аптекарь?
— Старший врач вызвал.
— Черт, всегда у него причина,— злюсь я.
Прибегает Колька:
— Твое звено на посадку первым на «Молнию». Будешь вместе с батальоном Чайки высаживаться. А я с Радченко. Ну, до встречи на том берегу!..
Колька хлопает меня по плечу. Я притискиваю его к себе.
Мостовой наконец появляется. Запыхался.
— Сколько тебя ждать?! — ору я.
— А за аптеку Пушкин отвечать будет?.. Ящик один чуть не оставили, охламоны.
У разрушенной постройки присоединяемся к колонне. Вязкая, густая, чавкающая темнота. Сыплет дождик-мгичка. Идем быстро, хотя ничего не видно. Через ямы, лужи, бугры. Без разговоров. Только слышно на подъемах посапывание и тяжелое дыхание перегруженных людей. Шлепают, чвакают сапоги — сотни ног месят глину.
Давиденков с Плотниковым тащат медицинский форменный ящик. Он тяжелый. Позвякивают металлические ручки. Плотников кряхтит. Давиденков на ходу забирает у него носилки.
На пристань — крутой спуск. Ноги скользят. Ветер с моря, как скаженный, свистит, обжигает, хочет свалить. Справа, вдали — за выступом, короткие багровые вспышки. И гром. Бьют дальнобойные. С каждой вспышкой проступает из мрака черно-красная махина моря. Как бы продолжая орудийный гром, ревя, оно наступает на кручи, шарахает с размаху о причалы. Скрипят сваи. Гремят цепи. Громко хлюпает где-то под днищами судов. Спускаемся на берег. Под обрывом несколько блиндажей. Вразнобой, словно оголенные деревья в лесу, качаются мачты сейнеров, охотников, катеров. Чуть мерцают красные фонарики на корме.
На берегу большое скопление людей. Мы смешиваемся с ними. Только бы не растерять своих — одна мысль у меня в голове.
— Аня, Мишка, Дронов... Сюда... за мной,— повторяю вполголоса.
Слышат они, не слышат, но пока держимся все вместе.
Идет погрузка; удивительно, как только она возможна в такой тьме! Подъезжают грузовики, скупо намечая дорогу узкой полоской синего света. Люди — бесформенные тени — копошатся, передвигаются, согнувшись, втаскивают по трапам на суда ящики с патронами и минами, мешки с мукой, тянут орудия, вкатывают бочки с водой.
И все почти молча, привычно, ловко.
Мы пробираемся к сейнеру «Молния». Высокий, как мачта, в дождевике, у трапа стоит Чайка.
— Давай быстрей, Житняк! Не тяни резину,— приглушенно кричит он.
Командир минометной роты Житняк, с пиратской бородищей, пропускает, подгоняет ребят.
— Медицина, давай садись,— подает знак рукой Чайка.
Поднимаемся вслед за минометчиками.
Пока мы устраивались на сейнере, не слышали ни свистков боцмана, ни команды убрать сходни. Опомнились, когда уже отвалили от причала.
На носу уселись пэтээровцы, выставив вперед свои длинноствольные ружья, будто приготовились к абордажу. Житняковские хлопцы не сбросили с себя минометов. Так навьюченные и сидят вдоль бортов, и лопаты штыковые рядом.
Еще рота автоматчиков на палубе и связисты. Всего нас человек шестьдесят. Сейнер вооружен. На корме, на железной тумбе, установлен крупнокалиберный пулемет. Перед капитанской рубкой торчит пушка.
Быстро теряется берег. Теперь сплошная, кромешная тьма. Ветер обдает ледяным дыханием. Хоронимся, пристроившись на ступеньках у входа в кубрик.
Минометчики, уплотнившись в кружок, достают пайки и начинают жевать. Из фляжек забулькало. У меня за спиной сидит молоденький солдатик с птичьим носиком в завязанной на подбородке шапке-ушанке.
— Та ты выпей, Лопата! — уговаривает солдатика его сосед.— Оно легчей будет. Нам еще плыть и плыть... А потом пересадка на «тюлькин» флот.
Чувствую, как дрожит спина солдатика.
— А я плавать не умею,— тоскливо говорит он.
— Ничего,— крякает его сосед.— Крепка... На мотоботе, как к теще в гости, сухим на берег доставят. А сопли распускать будешь, тогда лучше бери грузило и сигай на дно.
Пока молчим. Разговор не клеится.
Но вот Савелий предлагает:
— А мы чего, хуже других? Давай, старшина, раскупоривай НЗ.
Мишка Рыжий достает водку, консервы. Пьем прямо из горлышка. Обжигает.
— Дай бог, не последнюю!
Пьет с нами и Аня. Закусываем тушенкой.
Открывается дверь. Из кубрика дохнуло теплом, светом, табачным дымом. Раздается смех. Морячок поднялся на палубу, вскоре возвращается, замечает Аню.
— Э, так не годится... Лучше держись за клеш — не пропадешь... Идем к нам! — И забирает Аню в кубрик.
Все больше и больше качает. Гудят ноюще снасти. Дождь усиливается. Мы вышли в пролив.
— Балла четыре, наверное, будет! — кричу я.
— Все шесть... Погодка — только выть,— отвечает Рыжий.— Фрицы не ждут...
Моряки чаще и чаще выходят из кубрика, и мы убираемся со ступенек. Бортовая качка. Ходить нельзя: палуба склизкая, судно так накреняется, что, кажется, вот-вот перевернется.
Я примостился у борта возле металлического ящика. Хочется о чем-то вспомнить и никак не вспомню. Полудрема. Наплывает. Уплывает... Донбасс... «Калачики, калачики, зеленая трава». Почему калачики? Шелковица! Мое дерево под окном. Паровозы. И мамин голос... Нет, бабушкин. Она по-украински кличет:
— Ивасыку-Телесыку, приплынь, приплынь до бережка!
Так я плыву... Плыву... Только зачем толкать? Зачем?..
Сильный удар — стукаюсь о борт. Оказывается, я заснул. Муторно. Голова трещит. Изжога от тушенки. Откидываю плащ-палатку. Непроглядная темь. Холод собачий — водка уже не греет. Мерзнут ноги, и я шевелю пальцами.
Где-то в тучах прячется немецкий самолет. Бросает осветительные ракеты-фонари. Приторно-яркий, дрожащий свет, как от вольтовой дуги. Медленно спускаясь на парашютах, ракеты вырывают из мрака громадные, неестественно белые горбы волн и черные провалы меж ними. Тучи в небе низкие, бегущие, разорванные.
На палубе все притихли — головы в коленки, скорчились, закутались плащ-палатками, дремлют. Только недалеко от меня один солдат, матерясь, блюет. Да у пулемета памятником застыла массивная фигура моряка.
...От пристани Комсомольской до Керченского побережья при нормальных условиях полтора часа хода. А мы идем, идем — кажется, вечность. Шторм и дождь разыгрались не на шутку.
— Заблукали, что ли? — мычит, продирая глаза, Дронов.
— Мотоботы никак не разыщем,— говорит Савелий.
В пути мы уже часа три. Если дальше будем так болтаться, то встретим рассвет в море. Мотоботы нам нужны обязательно: у керченских берегов мелководье, и сейнеры сами подойти туда не смогут.
Никто уже не спит. Молчат. Сейчас не до шуток. Связаны в этот час мы все одной веревочкой — невольно придвинулись друг к другу.
Все чаще опускаются осветительные ракеты. Прожекторы шарят, полосят по небу. Опять вырисовываются горбы, горбы волн. А погаснет свет — еще чернее, еще страшнее ночь.
Как только в этом хаосе волн, дождя, ветра можно что-нибудь найти?
На палубе говор: «Мотобот... Мотобот...»
Я его еще не вижу. Но все ребята уже на ногах. На сейнере глушат мотор. Слышно, как капитан орет в мегафон, сквозь рев ветра доносятся обрывки фраз, матюки:
— Мать вашу растак... Где болтались?
Из тьмы кричало:
— Рули... Рули заклинило...
— Давай подходи к борту! — хрипит капитан.
Мотобот долго не может приблизиться к сейнеру — мешают волны. Теперь вижу. Маленькое суденышко чуть приподнимается над водой. Как его только не зальет? Вот уже качается внизу у борта. С палубы сейнера до мотобота метра три. Эта высота для прыжка — ерунда, но ведь оба судна взлетают, качаются вверх-вниз, а между ними пролет, который кажется бездной бурлящей, клокочущей.
Все сгрудились у борта. Сейчас нужно будет прыгать. Если б это был уже берег, я бы прыгнул не задумываясь.
Пусть под самые пули, под огонь... Но в это железное корыто?! А палуба сейнера такая прочная, неуязвимая. Что-то противится внутри. Страх? Чувство самосохранения? Но это всего несколько секунд. Какое-то время никто не решается прыгнуть первым. Застыли.
Но морячки забегали, заметались по палубе.
— Прыгай! Полундра! — раздираются матросские глотки. И хватают, и тащат первого попавшегося бойца,— это тот самый, молоденький солдатик с птичьим носиком, в завязанной ушанке. Он упирается, вцепился руками в поручни. Тогда в толпу врывается бородач Житняк.
— А ну отхлынь.. Сами, без нянек...
И рявкает, трясет бородой:
— Прыгать!.. Ребя...
Мы перелазим через борт. И прыгаем один за другим в мотобот. Только удары тупые о железное днище: «гуп... гуп... гуп..».
Мотобот еще глубже зарывается в волны. За людьми летят деревянные и железные ящики. Их ловят Давиденков и еще такой же детина из минометчиков. Давиденков подхватывает и нашу Аню.
Быстро исчезает сейнер. Мотобот перегружен — теснота.
Волны обдают с ног до головы. Согнувшись, прижимаемся плечом к плечу. Подставляем водяным потокам развернутые плащ-палатки. Я на корме. За моей спиной тарахтит мотор — там рубка моториста. В рот, глаза лезет дым, гарь — трудно дышать. А железо скрипит, трещит дерево.
Берега пока не видно — впереди только вспышки и зарево. И голова рулевого над бронированным козырьком — белая повязка через лоб.
Хлещет дождь, хлещет. И прямо над нами, чертя небо раскаленными пунктирами, тяжело посвистывая, пролетают снаряды. С Тамани долбят, долбят побережье. Прижимаемся к самому днищу.
Растет грохот волн — значит близко берег. Хоть бы скорее, скорее... Нас пока не заметили. Лучи прожектора откуда-то слева скользят, шарят туда-сюда по воде и, не зацепив наш мотобот, укорачиваясь, перебегают в другую сторону, вырывая вдруг из темноты, словно на экране, узкую кромку берега и цепь крутых сопок с разбросанными под ними домишками. В глубине, за высотами, огненная полоса взрывов. Наши там уже ведут бой. На носу мотобота стоит матрос в накидке, шестом промеряет глубину. Рядом с ним бородач Житняк. Подвигаемся ближе к берегу. Приподнимаемся. Ноги как на пружинах.
— Берег! — кричит матрос мотористу.
Один мотор притихает. Житняк сам опускает шест.
— Два метра... вези дальше. Потопить мог бы и в Тамани...
— Чего вы там, раздолбай?! — матюкается моторист.
— Да вот, жлоб орет, что нет берега,— психует матрос.
— Давай вперед! — кричит Житняк.
Мотобот двигается вперед. Через несколько десятков метров — толчок, скрежет, суденышко уткнулось в песок. Это мель. До берега еще метров пятьдесят.
— Влево, вправо...
Мотобот маневрирует, чтобы не стать бортом к волне.
Приготовились к прыжку. Вдруг огненно-голубой луч прожектора с ходу пронизал мотобот. Ослепило, будто кулаком ударило по глазам. И тут же взвились десятки ракет и осветили весь берег и взморье. И загремело... И загрохотало... Огонь... Огонь... Огонь. Со всех сторон. Градом посыпались снаряды, мины. Разрывы запрыгали по волнам, вздымая смерчи воды. Светло как днем. Теперь замечаешь, что кроме нашего мотобота справа и слева от него на подходе к берегу с десяток таких же суденышек. Метрах в ста от нас взрывается и, как факел, вспыхивает мотобот — видны летящие вверх тела, куски железа, доски. Подальше другое судно, переломившись пополам, исчезает в кипящих волнах. Барахтаются люди — ныряют, выплывают. В багровых отсветах появляются головы, руки.
— На берег! Вперед! — размахивая автоматом, вопит Житняк и первым прыгает за борт, погружаясь в воду выше груди. Слов его не слышно, только видно перекошенное бородатое лицо. За Житняком прыгают остальные. Я окунаюсь в волны с головой, потому что сумка и вещмешок при прыжке съехали на грудь. Наглотался воды. Пока бултыхался, потерял из виду своих ребят.
— Аня!.. Аня!.. Давиденков! — кричу я что есть силы, но кто услышит меня в таком грохоте? Часть людей уже на берегу. Минометчики все еще сгружают ящики с минами.
А с нашего мотобота строчит пулемет: «ту-ту-ту...». Рулевой, с перевязанным лбом, бьет поверх домиков в место, откуда все время вылетают красные, синие, желтые стрелы трассирующих пуль.
Выскакиваю на песчаный берег, неуклюже переваливаясь, бегу за нашими автоматчиками, которые уже пробежали проволочные заграждения. Вывороченные железные колья. Воронки. Трупы. Песчаный откос. Сапоги увязают в зыбучем песке. Сползаю вниз. Ползу на четвереньках. Шинель тяжелая, набухшая, стопудовая. Штаниной цепляюсь за проволоку — оставляю кусок. Догоняю автоматчиков. Близко взрывается мина. Ожгло. Рот полон песку. Но цел! Впереди два дерева, за ними — дорога, но как раз в этом месте — поток трассирующих. Только не ложиться. Только вперед — это наше спасение.
Броском преодолеваем дорогу и мчимся к поселку. Мимо маленьких, багровых от дыма домиков, огородов. Мимо длинного каменного здания с оградой, через густой бурьян и канаву по воде, потом вверх по скользкой тропинке к черной расщелине между двумя сопками. Там, оказывается, большой овраг. Грохот взрывов и шум моря доносится уже глуше. И ветра здесь нет. В овраге вскоре собираются все остальные. Где ребята моего звена? Дождь продолжает лить. Дрожу, как цуцик. Одежда прилипла к телу, в сапогах — каша. Темь. Хожу, ищу своих по голосу, на ощупь. Натыкаюсь на мокрые шинели, белье, а то и голое тело. На дрожащих, лязгающих зубами.
— Из санроты кто есть? — спрашиваю.— Кто из санроты?
Набрел на аптекаря. Он без шапки, пританцовывает.
— Курорт, а? — еще шутит.
— Ребята где?
— Давиденков бежал со мной, где-то здесь... И Аня тоже.
— Никуда не уходи.
Он ничего не отвечает. Садится и выливает воду из сапог. Я шлепаю дальше.
— Из санроты кто есть?..