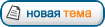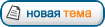ТЕТРАДЬ ШЕСТАЯ
ПОБЕДНАЯ ВЕСНА
I ПАНИКА
Однажды февральским воскресеньем вернулся я из похода по бауэрам уставшим и расстроенным. Хотя причин для плохого настроения не было: погода хорошая, торба тоже не пустая. В ней: картошка, яблоки с ароматным запахом, куски хлеба и шматки сала. Жорка глянул на добычу и удивился моему кислому виду:
– Что случилось?
– Наши Будапешт взяли!
Товарищ вытаращил на меня глаза и вообще оторопел:
– И что в этом плохого? Скоро освободят, а ты как в воду опущенный. С чего бы это?
– Дело не во мне, – вздохнул я. – С австрийцами плохо. Паника.
– Как?! – не понял Жорка. – Какая паника?
– Геббельс выступил по радио и испугал народ.
– Что же натрепала эта балаболка?
– Объявил, что на страну надвигается войско варваров, которые уничтожают всё на своём пути… – я помолчал и добавил. – И людей тоже.
– Вот сволочь! Это же чушь собачья!
– Это ты знаешь, а австрийцы верят этому трепачу.
– Да-а! – вздохнул Жорка. – Дела-а-а! Но ты-то при чём?
– Жаль людей! Подадутся в бега, всё бросят: добро и скот. Нужно как-то остановить народ. А тут ещё Макс исчез!
– Я говорю, – хмыкнул Жорка, – у медсестры околачивается.
Я пожал плечами и ничего не ответил. Мне их отношения были совершенно безразличны, а вот то, что он забыл о нас – это вопрос.
Макс объявился весенним утром. Это по календарю. Зима начала терять свои позиции, как и фашистские войска.
Закапало с крыш. Сосульки висели, чуть ли не до земли. Над входными дверями мы сбивали их палками. На южных склонах появились проталины.
И вдруг задул южный ветер, – это весна дружно навалилась на зимние доспехи. Потекли ручьи. Река буйно и стремительно покатила, вал за валом, забираясь в овраги, подмывала глинистые берега и выхватывала у них добычу. Чего только в ней не было! Старые коряги и молодые деревца, вырванные с корнем, кусты ивняка и мёртвый хворост, прогнившие пни и даже чёрные, промасленные борта челноков, разбитых вдрызг.
Всё это река несла на своём горбу прямо на электростанцию. Я смотрел на это, вспоминал осень и с тревогой думал: «Не погонят ли нас опять на очистку решёток?»
Но пока не трогали. Видно, мы нужны здесь.
Мастер вошёл в комнату, когда мы ели картошку в мундирах, и пригласили его разделить с нами завтрак. Он не отказался и взял одну картофелину. Очищая её от кожуры, поинтересовался:
– Новости есть?
– У нас нет. Разве что, Жорка оклемался совсем, да река вздулась. Нас могут забрать?
– Нет, – заверил Макс. – А кто будет готовить дом?
– И ещё, – продолжал я. – Бауэры паникуют, собираются драпать. Жалко людей.
– Вот и я, вздохнул мастер, – хотел спросить, что нас ждёт?
– А ничего! – заверил я. – Непонятно, – чего люди боятся?
– Я тоже подумал об этом. – Вздохнул опять Макс. – не могут так поступать русские. Когда я был в России в плену… Соли дайте?
– У нас нет. Выдали коричневую и всё.
Макс съел картофелину без соли и отправился по комнатам, так и не договорив. Я поспешил за ним. Он обошёл все, где мы штукатурили и остался доволен. Мы вернулись в нашу комнату, и Макс продолжил разговор. Видно, паника тревожила его больше всего.
– Так что ж будет с нами? – задумчиво проговорил он.
– Не знаю, – пожал я плечами. – И чего люди боятся? Наши солдаты не звери. Никто вас не тронет. За эти слова отвечаю головой!
– Почему ты так уверен?
– У нас политика такая: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Понятно?
– Возможно, пока вы здесь, что-то изменилось?
– Нет! Меня возмущает то, что, куда ни придёшь, только и слышишь: «Русские нас постреляют!» Объясняешь, что никто не будет вас убивать. Люди смотрят на тебя недоверчиво.
– Вы аккуратно с такими разговорами, а то за это, – Макс растопырил два пальца и упёр себе в горло, – вилы – смерть. Нарвётесь на кого, и прощай жизнь. Нацисты звереют.
– Не маленькие – понимаем. – Ответил я. – Объясняем тем, кто спрашивает.
– Много таких?
– Хватит! Почти в каждом доме, где бываем, – заверил я его.
– Вот если бы поверили вам и остались на месте?
– Нам пришлось такое пережить, – вздохнул я. – В сорок третьем мой город Керчь выселили до единого человека. Люди всё бросили. Не выполнишь приказ – расстрел.
– Неужели выгнали весь город? – удивился Макс.
– Я же сказал – до единого человека. Вот почему объясняю вашим – не покидать свои жилища.
– Большое дело делаешь. Потом люди спасибо скажут. Только делай это с оглядкой.
– Это понятно! – согласился я.
В ближайшее воскресенье пошли по бауэрам вместе с Жоркой. Погода стояла отличная. Солнце пригревает. Одним словом – весна.
Ещё в прошлое воскресенье кое-где лежал снег, но южный ветер делал своё дело. С гор текли десятки речек и ручьёв, и всё неслось к Дунаю. Блуждая по бауэрам, укрылся я тогда от ветра в буковом перелеске, перекуривал и видел в оврагах и низинах толстые пласты снега. Их плотно, словно зонтами, укрывали кронами от солнца старые буки. Они распростирают во все стороны цепкие узловатые ветви. Мне почему-то почудилось, что это костлявые руки тянутся к моему горлу. Я вздрогнул и поспешил покинуть лес.
Сейчас снег исчез, как мрачный сон. Остался только на вершинах и в предгорье. В долине, по обочинам дорог – сливы, яблони и груши вот-вот распустят цвет. Почки набухли, а некоторые лопнули, показывая розоватый язычок лепестка.
Появились и скворцы. Несмотря на войну, они знают время перелёта. Теперь птицы не летают стаями, как осенью. Настало время пароваться и готовить гнёзда.
В доказательство, на макушке столба иссиня-чёрный одиночка поёт, призывая подругу. Это бывает только весной.
Жорка шагает рядом и радуется:
– Красота! Я и не заметил, как прошла зима.
– Зато мне она запомнится надолго, вздохнул я. – Ты отлежался…
– Врагу не пожелаю такое лежание! – разозлился товарищ. – Будто я нарочно?
– Чего завёлся? – примирительно отозвался я. – Или упрекаю тебя? – впереди показался хутор. – Вон, дом, – показал я рукой. – Пошли!
Весь день нам задавали один и тот же вопрос: «Как быть? Что нас ждёт?» Как могли, мы успокаивали людей. Некоторые верили нам, а были и такие, которые молча укладывали вещи на подводы и пускались в дальнюю дорогу. На таких мы смотрели с сожалением. Объяснять им что-либо было опасно. Среди них большинство нацисты.
На другой день мимо нашей усадьбы прошла большая колонна женщин с детьми и стариками. У них за плечами рюкзаки, и это всё имущество.
Я поинтересовался: «Кто такие?» оказалось – это немцы. Они ещё осенью бросили своё жильё и ушли на восток, спасаясь от бомбёжек. Теперь возвращаются домой.
– Ну и дела! – пожал я плечами.
Жорка глянул на меня с таким видом, словно я ему должен и не отдаю большую сумму. Я догадался, что у него в голове. Он всегда осуждал меня, когда жалею немцев. На этот раз воздержался. Видно, и у него ёкнуло сердце при виде бредущих людей.
II НОВЫЕ ЛЮДИ
С наступлением весны американцы стали летать на бомбёжки каждый день. Мы видели самолёты. Они шли по самому горизонту. Армада за армадой надрывно гудит. Видно, тяжело груженые. Вокруг бомбардировщиков словно осы, кружат истребители прикрытия. Жуткое дело, сколько самолётов! Смотрю и думаю: «Такой оравой можно за раз уничтожить целый город…»
Летали они всегда в одно время: с одиннадцати до двух часов, но бывало и дольше. Полтора часа летели туда и столько же назад. Это мы засекли. А откуда и куда направлялись, мы не знали.
На заводе завывала сирена воздушной тревоги. Рабочих загоняли в бомбоубежище. Австрийцы отдельно от остальных – пленных и остарбайтеров. Только мы с Жоркой не прятались и наблюдали за «летающими крепостями». Но вот прошли, стая за стаей, и наступает тишина.
– Где они бомбят? – спросил однажды товарищ.
– Чёрт их знает! – пожал я плечами. – Если судить по направлению, – Германию.
– Так им и надо, фрицам поганым! – злорадно пробормотал Жорка. – Думали, не аукнется?
– Ты не прав! – возразил я. – Нельзя людям желать смерти.
– Не-е-льзя-я-а?! А они нас…
– И всё равно, – не сдавался я. – Мы что, фашисты?
– Ну, не фашисты! И всё же – кровь за кровь, зуб за зуб…
Я не возразил ему, а просто был озадачен тем, что Жорка не отличал зла от истинного добра. Хотя, моя бабка, по какому поводу – не помню – сказала: «Добро тоже ходит и пробивает путь себе увесистыми кулаками».
Мне пришлось много вытерпеть зла от людей, но у меня не было ни капли того яда, который зовут Ненавистью. А вот товарищ удивлял меня своей злобой.
Я же, почему-то не помнил зла, в моём сознании первое место занимало добро. Потому же просто радовался, что жив и могу дышать видеть солнце и того же Жорку.
– Представляю, – вздохнул я, – что творится у них при бомбёжке? Вспоминаю, как нас бомбили – мурашки по коже. Так, налетало не больше полсотни. А здесь – сотни. С землёй всё смешают! А ты – кровь за кровь?..
– Жалость появилась, да? – выдавил сквозь зубы товарищ.
– К фашистам – нет! К детям – да! Они-то при чём?
– Вообще-то, ты прав. При чём здесь дети? – задумчиво проговорил он.
Хотя и согласился Жорка со мной, но я не был уверен в его искренности. И на том спасибо, что закралась в его сердце искорка добра.
Так спорили и рассуждали мы, провожая взглядом «войну», которая пока обходила нас стороной.
Макс появился в усадьбе неожиданно, в конце рабочего дня. Он заметно похудел, словно с креста сняли, как обычно говорят. Глаза запали, а выпирающие скулы объясняли, что ему стоило большого труда пережить суровую зиму.
Мастер ходил по комнатам с озабоченным видом, трогал штукатурку, чуть ли не на зуб пробовал её, и что-то недовольно бормотал. Мы же плелись за ним, как привязанные, и ждали оценки своей работы.
– Больше не топите! – резко повернулся он к нам. – Один чёрт не высохнет, пока не потеплеет.
– А нам куда? – в один голос спросили мы. – В лагерь?
– Вас что, трогают?
– Пока нет, – пожал я плечами.
– Ну и живите! Только не вздумайте убегать. Я за вас в ответе.
– Куда бежать! – вздохнул я. – Фронт уже на ваших границах. Это прифронтовая зона. Беглецов принимают за шпионов и расстреливают.
– Не может быть! – удивился Макс.
– Я это знаю. Через мой город трижды прокатился фронт, а на четвёртый раз выселили, как я уже говорил. Так что, повидал.
– В общем, я на вас надеюсь. – Проговорил Макс и ушёл.
Несколько дней мы бездельничали. Ели, хоть и не досыта, но ели, а спали – кому сколько влезет. В свободное от еды и сна время наблюдали за летящими самолётами. Жорка однажды, потягиваясь, с довольным лицом, мечтательно проговорил:
– Житуха! Так бы до конца войны!
– Ты уже совсем губу раскатал – мёд, так ложкой? Подожди! Появится Макс, он нас запряжёт! – развеял я Жоркины мечтания.
– Ну и что? А пока – красота! И вообще, не каркай!
Я же как в воду смотрел. На другое утро мастер пришёл и заявил:
– Начальство требует дом! Будто бы не было суровой зимы.
– Кому он нужен? – удивился я. – Фашисты разбегаются.
– Наш инженер разбегаться не собирается. Его семье негде жить. Обещал подбросить людей в помощь. Вы только языками не болтайте при них. Народ всякий попадается.
– Не маленькие – понимаем! – заверил я.
– Надеюсь! – усмехнулся Макс.
На другой день мы проснулись, как обычно, рано. Сварили картошки в мундирах. Она, чувствуя весну, стала прорастать и морщиться, как у древнего старца лицо. Мы обрывали глазки и только после того варили. Пристроившись на крыльце дома, завтракали. В помещении было душно от спёртого парного, словно в бане, воздуха. Раскрыть двери да проветрить Макс не разрешал. Он опасался, что от сквозняка порвёт штукатурку.
– Утром посмотрю, – сказал он.
Не успели мы съесть по одной картофелине, как во двор вошла плохо одетая женщина. Старое заношенное пальто на ней висело, как на вешалке, и было похоже на широкий балахон. Сразу видно, что оно с чужого плеча. На ногах стоптанные солдатские башмаки, голова укутана чем-то наподобие платка. На её угрюмом худом лице лежал отпечаток усталости и отрешённости. Возраст её определить было невозможно. Можно дать и сорок, и пятьдесят.
Женщина поздоровалась, сказав: «Морген!» По этому мы определили, что она немка. Австрийцы говорят при встрече: «Сервус!», и утром, и вечером, и днём. Это означало вроде нашего: «Привет!»
Она осмотрелась и остановила взгляд на нашем котелке с картошкой. Глотнула слюну и отошла в сторону.
Я с первой минуты наблюдал за ней, и знал, отчего глотают слюну. Жорка смотрел то на женщину, то на меня, растерянно лупая глазами и катая в руках горячую картофелину.
Незнакомка села на опрокинутый вверх дном ящик и молчала. Я схватил пару картофелин и отнёс ей. Она приняла их и тихо поблагодарила:
– Данке!
– Не за что! – отозвался я по-русски.
Какой она национальности, меня мало волновало. Прежде всего, видел в ней голодного человека. Жорка молча кивнул, одобряя мой поступок.
И всё же, мысль о её национальности засела у меня в голове, и – если она немка, – почему в таком состоянии? Иностранных женских лагерей в этом районе нет…
Мои мысли прервало появление мальчишки лет пятнадцати. Вот в нём я сразу признал немца или австрийца. Чистенький и свеженький, как огурчик с грядки.
Пришелец остановился, расставил ноги, как это делают эсэсовцы, и с презрением глянул на нас. Мы переглянулись, а Жорка удивился:
– Что ещё за фрукт?!
Я пожал плечами и наблюдал за мальчишкой. Увидев женщину, он скорчил злую гримасу, подскочил к ней и ударом сапога выбил из рук картофелину.
Нас с Жоркой словно укололи острым; мы подскочили на ноги и пошли на обидчика, набычившись.
– Ах ты, фашистская харя! – цедил я сквозь зубы. – Сейчас покажу, где раки зимуют, гадёныш!
Женщина в первый миг растерялась, а потом, увидев, что дело оборачивается дракой, заслонила собой обидчика и выговорила:
– Найн!
Только потом мы сообразили, что спасала она нас, а не мальчишку. В ту же минуту мы не обратили на неё внимания. Обошли с двух сторон и надвигались на пришельца.
Чем бы всё это обернулось, трудно сказать, не войди в этот момент во двор Макс. Увидев, что назревает драка: новичок встал в боксёрскую стойку, мы, насупленные, наступали на него, мастер закатил мальчишке затрещину, женщине сказал: «Гутен морген», нас схватил за уши и потащил в дом. Больно было до слёз. Жорка не выдержал и завопил:
– Бо-о-о-ль-но-о!
Макс втолкнул нас в прихожую и закрыл дверь. Мы тёрли огнём горевшие уши. Мастер стал спиной к двери, зло проговорил:
– Вы что, с ума сошли?! Спешите на тот свет?
– А чего он, фашистик несчастный, над женщиной издевается?! – загундосил Жорка, всё ещё потирая ухо.
– Ах, вот в чём дело! А я подумал, что это петухи задрались? Оно, конечно, похвально, что заступились за женщину. Но эта защита может выйти вам боком.
– Это почему? – удивился я. – Мы его, гада, не били, попугали только.
– Он может повернуть дело по-другому, и ему поверят. И ещё. Эта женщина только что из концлагеря.
– То-то, она так плохо одета и измучена. – Задумчиво проговорил я.
– Короче говоря, – продолжал Макс. – по моим сведениям, она политическая, а пацан, гитлерюгенд, приставлен к ней надзирателем.
– Ну и дела! – удивился Жорка.
– Как она попала к нам? – поинтересовался я.
– Это та помощь, которую обещал инженер.
– Не было печали! Нужен нам этот фашистик, как собаке пятая нога! – отозвался я недовольно. – Он же работать не будет. Смотрите, как вырядился, аж блестит!
– Ничего! Заставим! – заверил мастер. – От вас требуется – ни во что не вмешиваться. Розе, – так её зовут, – не оказывать чрезмерного внимания. Это может вам дорого обойтись.
– Ладно! – проговорил я. – Мы его проучим другим способом.
– Как?
– Пока не знаю.
– Смотрите, не сильно, и так, чтобы не было неприятностей. – Согласился Макс.
– А чего его жалеть, – буркнул Жорка. – От него – как от козла молока. По нём видно.
III СОЛИДАРНОСТЬ
Так потянулись, как тугая резина, дни за днями. Весна всё больше и больше входила в свои права: трава, будто на дрожжах, поднималась на солнечных склонах гор и в долине; на кустах и деревьях лопались почки, из них робко выглядывали усики будущих листьев.
В солнечные дни, с затишной стороны дома, мы грелись и варили на костре картофельный суп. Светило уже порядочно припекало.
Я радовался, что, наконец, природа проснулась от зимней спячки. В отличие от меня, Жорка не любил «витать в облаках», как он говорил. Это я мог мечтать и часами рассказывать о нашей жизни после войны, о том, что есть будем всё вкусное…
Товарищ, насупившись, слушал и молчал. Верил он в счастье и добро? Не знаю! Думаю, не утруждал себя таким ненужным на данный момент вопросом. Его волновал только сегодняшний день и насущное: хлеб, табак, три подпорченные картофелины…
Это меня удивляло. Как можно не скучать без книг? Ведь как хорошо бы окунуться в мир иной, в другую эпоху, далёкую от сегодняшней жестокой жизни. Товарищ, видя мой задумчивое, грустное лицо, напускался на меня:
– Ты опять витаешь в облаках? Опустись на грешную землю!
Что я мог ему сказать? Только молча вздыхать.
Утром первой приходила на работу Роза. Зябко – а ещё по утрам с гор дышала прохлада – кутаясь в старое пальто, она садилась в стороне на опрокинутый ящик. И только после этого говорила нам:
– Морген!
Если мы в это время ели картошку, – делились с ней. Она не спеша, жевала и, задрав голову, смотрела на отступающие по горной дороге венгерские войска. Впервые они появились, как только Красная Армия взяла Будапешт.
Шли машины, натужно ревя, чем-то груженые до отказа, гремели коваными колёсами обозы с крытыми брезентом фургонами. Уставшие лошади с трудом тащили тяжёлые подводы. Бывало, проходили и пешие воинские части или, грохоча, – два-три допотопных танка. У немцев давно таких нет.
Пройдут войска по узкой горной дороге, исчезая за громадной скалой, и опять тишь да благодать, словно и нет войны. Только перед полуднем о ней напоминает сирена воздушной тревоги.
Почти вслед за Розой, плёлся сонный Курт. Так звали приставленного к ней мальчишку. Он, как привидение, ходил за ней всюду. Поначалу нас удивляло, – зачем? Роза казалась нам тихой и скромной женщиной, никому не делающей зла. Мы как-то сказали об этом Максу. Он загадочно усмехнулся:
– Как знать! Как знать!
Больше с такими вопросами к мастеру не приставали. Мы знали неписанные законы о любопытстве, которое порождает подозрительность и недоверие.
Ещё мы заметили, что Курт не так смотрит чёртом на Розу, как вначале. Что на него повлияло – неизвестно. Возможно, надоела слежка.
Он валился на кучу мелкой упаковочной стружки, которая лежала под амбаром, и тут же засыпал. Спал до тех пор, пока его не поднимал Макс. Курт продирал глаза и, как закачанная рыба, плёлся, пошатываясь, за мастером.
После первой затрещины, которую Макс влепил ему, а нам чуть не оторвал уши, мы больше не трогали мальчишку. Что случилось? Мы не знали.
Хотя юный гитлеровец и перестал откровенно издеваться над женщиной, он не упускал случая чем-нибудь досадить ей. То ножку подставит, когда она несёт ведро с раствором, водой обольёт…
Мы помогали женщине подняться и, гневно сжимая кулаки, грозили обидчику. Чувствуя безнаказанность, он стоял, не двигаясь, и ехидно улыбался. Видно, думал: «Давайте, давайте! Только посмейте! Я вас в концлагере сгною…»
Мастер покрикивал на нас. Мы вздыхали и брались за работу, отворачиваясь от наглого юнца. Зато Макс не давал Курту спуску в работе. Хоть это радовало нас, но не теряли надежды отомстить.
Я ещё мог забыть, но Жорка не упустит момента. Он не прощал обиды.
Такой случай вскоре представился. Воздушная тревога обычно начиналась около одиннадцати часов. Об этом сообщала заводская сирена. Мы знали, что в это время рабочих загоняли в бомбоубежище. Нам же раздолье. Мы бросали работу. Макс исчезал куда-то. Роза устраивалась на стружке под амбаром и дремала. Курт садился на пороге и ковырял палкой землю. В отсутствие мастера, он побаивался нас. Мы же, помня наказ Макса, не трогали его, делая вид, будто не замечаем.
После объявления воздушной тревоги, мы с Жоркой взбирались на конёк амбара, усаживались на него верхом, как на лошадь. С его высоты наблюдали за летящими самолётами. Они летели в стороне от посёлка. Однажды мы попытались посчитать их, но на триста десятом сбились и оставили бесполезную затею.
Мы видели, что Курт мается от одиночества, но к нам присоединиться не решается. И всё же однажды он рискнул.
Был понедельник, тяжёлый день для Курта. Как только завыла тревога, мы – на крышу и уселись на коньке. Самолётов ещё не было, но надрывный гул уже слышался. Мы разговаривали между собой и не заметили, как Курт забрался к нам.
На крыше он задержался не больше минуты, и посунулся, словно на салазках. Нет, мы его не толкали. Как говорится, «Бог шельму метит». Я мог подать ему руку и удержать врага, но тут же спрятал её за спину. Мальчишка это видел, и на его глазах появились слёзы. Я отвернулся от него, чтобы не видеть, как он сунется по скользкой, обросшей мохом, черепице.
Нет, Курт не убился. Почему я не подал ему руку? Война жестокая штука, и враг есть враг. Хоть и малолетний, но враг. Макса и ему подобных людей, бауэров, рабочих, хоть и не считали в полной мере друзьями, но и не врагами. А Курт? Курт совсем другое дело.
Он рухнул на остатки стружки, на которой обычно спал, и отделался переломом правой голени. Роза суетилась около своего врага. Хотела помочь, но не знала, как. Позвала нас. Мы спустились на землю, но помогать не стали. Я в сердцах буркнул:
– Нужно быть человеком.
Роза непонимающе глянула на нас. Мы же презрительно глянули на мальчишку, и ушли в дом.
– Как считаешь, что теперь будет? – спросил Жорка.
– Кто его знает? – пожал я плечами. – Мы-то при чём?
Только после отбоя воздушной тревоги, когда появился Макс, то помог пострадавшему. Нашёл подводу и отвёз его в больницу.
Утром Макс хмурый ходил по комнатам, а за работу не брался. Потом не выдержал и набросился на нас:
– Я предупреждал! Не трогать этого гадёныша!
– А мы и не трогали! – удивлённо пожал я плечами. – Сам свалился! Чёрт его понёс! Не умеет лазить по крышам, а суётся…
– Так вы его не толкали?
– Нет!
– А почему он сказал, когда я отвозил его, что толкали?
– Вот сволочь! – разозлился я. – Я, правда, мог подать ему руку.
– И почему не подал?
– Да пошёл он, гад!
– Вот это пошёл! Всем нам – вам и мне, и Розе может выйти боком!
– Если бы он не упал сам, я бы его столкнул наверняка. Такого удобного случая избавиться от него могло больше не представиться. – Вмешался Жорка. – Он надоел нам до чёртиков!
– Ради великой цели, – начал отчитывать нас Макс, – можно и потерпеть…
– Какой такой цели? – не понял я.
– Ну, хотя бы ряди того, чтобы Розу не подвести, или… Вам что, – неожиданно задал он вопрос. – В конце войны приспичило помереть?
– Как будто нет такого желания, – пожал я плечами. – Но терпеть…
– Это точно! Никому не хочется, – усмехнулся Макс. – Я удивляюсь вам, русским. Кто вас поймёт? В революцию я был у вас в плену, и наблюдал за вашим народом. На чём держался человек? Ни еды, ни тепла, ни света, кровь рекой… Я ничего не понял! И все наши в недоумение. Кто-то сказал: «Русская душа потёмки!» Так оно и есть.
Роза поинтересовалась, о чём разговор. Макс перевёл. Она удивилась:
– А как оценить души тех, кто в концлагерях?
Макс удивлённо глянул на женщину и пожал плечами.
– То-то! – усмехнулась Роза.
Часов в десять утра пришёл полицейский. Ходил по усадьбе, высматривал, мерил шагами, что-то записывал. Спросил нас, как произошло несчастье, а Макс переводил. Мы рассказали. Только я умолчал, что не подал руку. Своё веское слово сказал мастер. Он, как можно больше распаляя себя и жестикулируя, кричал прямо в лицо полицаю, словно тот в чём-то виноват:
– Я говорил! Предупреждал не один раз! Не смейте лазить по скользкой крыше!
Как мы поняли, это он спасал нас, а полицай удивился:
– А что они, собственно, делают на крыше?
– Вы, герр полицай, спросите у них! – ткнул Макс в нас пальцем. – Как тревога, я на завод, а они на крышу.
– Так что вы делаете там?
У нас тряслись поджилки от страха: вдруг скажет «Пошли со мной!», а он спросил совершенно другое. Мы переглянулись и выпалили:
– Смотрим на летящие самолёты!
– Какие самолёты? – не понял полицай.
– Американские, которые летят на бомбёжку!
– А разве видно?
– Не всегда. Другой раз слышен только гул.
Полицай больше ничего не спрашивал, пожал Максу руку и ушёл.
– Фу-у! – вздохнули мы с облегчением. – Пронесло!
– А Курт, выходит, ничего не сказал? – удивился я.
– Конечно! После моей обработки, – усмехнулся Макс. – пришлось промолчать.
В это время завыла сирена. Макс поспешил на завод, оказалось, он состоял в пожарной дружине.
Между тем, наступил апрель. По-настоящему стало тепло. Только по утрам и ночам ещё ощущалась прохлада. Деревья полностью покрылись пышным цветом, а те, которые не цвели, выбросили листву. Погода стояла солнечная и сухая.
Мы радовались теплу. Наконец сбросили свои тряпки. Роза заставила нас помыться, постирала наше бельё.
Мы смотрели на неё и не узнавали. В нас женщина обрела друзей. Это почуяла сердцем. После ухода Курта, она стала общительней и разговорчивей. Мы всё больше и больше привязывались к ней. Но наша дружба оказалась недолговечной. Однажды приехал на мотоцикле Макс и спросил:
– Где Роза?
– В доме! – удивлённо ответил я.
– Позовите!
Розу не пришлось звать. Она сама появилась на пороге:
– Что случилось?
– Потом объясню! На вот, – передал ей узел, – переоденься и быстро на мотоцикл! Время не ждёт!
Макс увёз Розу. Больше мы её не видели. Сам он возвратился перед объявлением воздушной тревоги. Первый его вопрос удивил нас:
– Гестапо было?
– Никого не было! – пожали мы плечами. – А что случилось?
– Обошлось! – усмехнулся мастер. – Что-то гестапо стало неповоротливым.
– Да что стряслось? – не понимали мы. – Где Роза?
– Дело в том, – Макс огляделся, нет ли посторонних, и зашептал. – Должны были Розу арестовать.
– Почему? – мы вообще ничего не понимали. – Что она сделала?
– Политическая! Этим всё сказано,– Макс помолчал и добавил. – И знаете, кто меня предупредил? В жизни не догадаетесь! – он глянул на наши удивлённые лица и усмехнулся. – Курт!
– Ку-у-рт?! – мы и рты пораскрывали.
– Да, Курт! Видно, совесть заговорила в нём? Но я думаю – русских боится. А так, будет оправдание, – и мы пахали…
– Ну и рыба! – возмутились мы. – Да его, гада…
– Ладно! – оборвал наше возмущение мастер. – Слышите, мотор гудит? По местам!
«Чёрный ворон» въехал во двор через несколько минут. Громоздкая машина синего цвета развернулась и остановилась у подъезда. Из кабины выпрыгнул шустрый мужчина в гражданском. Мы высыпали на крыльцо. Прибывший спросил у Макса:
– Где женщина, которая работает с вами?
– Кто её знает! Не вышла сегодня. – Пожал безразлично плечами мастер. – Возможно, заболела?
– Возможно, возможно! – буркнул гестаповец и уехал.
– Ну и Макс! Ну и артист! – смеялись мы. – Обвёл вокруг пальца. – А Курт? Одумался? Видно, скоро наши придут?
– Возможно! – подтвердил мастер.
– Вот теперь подал бы руку ему, – отозвался я.
Макс посмотрел на меня удивлённо, но ничего не сказал.
IV КОНЕЦ СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ
В апреле события разворачивались стремительно и не в пользу фашистов. Каждый день приносил что-то новое.
На другое утро, после исчезновения Розы, нам было приказано возвратиться в лагерь. Макс усмехнулся:
– Это я помешал вам.
– Как? – удивился я.
– Вернее – гестапо! – поправился мастер.
– Ну и чёрт с ним! – отозвался Жорка. – Зато Розу спасли.
– Розу-то спасли, – вздохнул Макс. – А кто будет спасать Австрию?
– А что случилось? – удивились мы.
– Опять по радио выступал Геббельс. Наговорил такого. Народ в растерянности. Все боятся русских…
– Неужели люди не поймут, что это неправда? – возмутился я.
– Должны понять, – согласился мастер. – Не такой и глупый народ…
И всё же, утром мы стали свидетелями, как мимо усадьбы проезжали тяжело груженые фуры. Мы только пришли из лагеря и ждали Макса, чтобы начинать работу. Он пришёл короткой дорогой и давал задание, когда из-за ёлки показались первые две лошадиные головы, а за ними ещё и ещё – целый обоз. Уставший народ бредёт следом за подводами. Мы и рты пораскрывали.
Я тряхнул головой. Видение не исчезло. Вот тогда вспомнился сорок третий год, как керчане покидали город. Как всё изменилось. Теперь в бегах немцы. И тут же подумал: «А при чём австрийцы?» Мастер словно подслушал мои мысли и вздохнул:
– Дурачьё! Кого слушают? Пойду, узнаю, что творится в мире.
Мы остались у дома и смотрели, как подвода за подводой проезжают мимо и метрах в полусотне останавливаются на привал.
Вернулся Макс примерно через час, расстроенный, словно не в себе. Мы забеспокоились:
– Что случилось?
– Русские под Веной! Идут бои!
– Ну и что? – удивился Жорка. – Это должно было случиться.
– Это не главное. Американцы бомбят всё без разбору. Вот и бегут люди в горы. Не от русских, а от бомбёжек.
– Понятно! – буркнул я. – Дома и мне приходилось уходить из города в сорок первом и в сорок втором, когда немцы сильно бомбили. Потом возвращался.
– Да я не о том. Жалко Вену. Разрушат её…
– Я был в ней. Красивый город. А может, наши быстро возьмут её, – предположил я.
– Дай бог! – согласился он.
В это время завыла сирена. Мастер, удручённый неприятными новостями, ушёл на завод. Тронулся в дорогу и обоз.
Весть о боях под Веной взбудоражила лагеря и австрийцев. Это известие разнеслось по округе быстро, как говорят – сработало «бабское радио». Хотя женщин почти не было. Куда ни глянь – мужчины.
В лагерях только и разговору, что об осаде столицы. Восточные рабочие, военнопленные итальянцы и французы молили Бога, чтобы скорей пришло освобождение. Но Бог что-то не очень торопился.
Весна, между тем, вошла во вкус. Приятная пора. Ещё не жарко и ветер не такой прохладный, как в марте. Временами солнце припекает. Деревья покрылись густой молодой листвой и щеголяют, словно пижоны.
Вот в это самое время в посёлке появились немецкие и венгерские войска. Солдаты измученные и грязные. А главное, злые, как цепные псы. Начали, было отыгрываться на местном населении и на лагерниках. Поднялся, чуть ли не бунт. Вмешалось высшее начальство, и фронтовиков вывели из посёлка.
– Вот, попёрли фрицев! – ликовал товарищ.
– Фронтовики всегда богуют. У нас тоже так было.
– Значит, мы ещё чего-то стоим?..
– Нужен ты им, и все остальные, как жирафе зеркало, – перебил я друга. – Их попёрли, чтобы не мешали работать.
– Неужели ещё на что-то надеются?
– Выходит, так.
– Ничего им уже не поможет, – хмыкнул Жорка. – Кишка тонка!..
– Что немцы выдыхаются – факт! – согласился я. – Но у них есть ещё резервы.
– Какие резервы? – горячился товарищ. – Остались старики и пацаны, такие, как мы!
Обстановка всё накаляется и накаляется, словно перед грозой. Отступают обозы и санитарные машины с ранеными. Проходят через посёлок и исчезают в утреннем тумане. А навстречу им колонна подростков, наших ровесников, – гитлерюгенд, в коричневых шинелях, в касках, и с фаустпатронами на плече.
Они проходили мимо лагеря в тот момент, когда смена направлялась на завод. Рабочие остановились и с удивлением смотрели на мальчишек. Те были разные ростом и возрастом. Одни рослые, другие средние, и были малыши. У таких лиц совсем не видно. Одна каска, а рядом головка фаустпатрона.
– Вояки! – усмехнулся Жорка. – Увидят танк и в штаны наложат.
– Как сказать! – не согласился стоящий рядом мужчина в засаленной спецовке. – Эти пацаны клятые… – он помолчал и добавил. – Хуже эсэсовцев.
– Прямо таки! – огрызнулся Жорка.
Юные гитлеровцы проходили мимо и вели себя по-разному. Одни брели, понурив головы, другие бодро шагали, гордо задрав подбородки, а были и настроенные воинственно, даже пытались петь, но их не поддерживали.
– Довоевались! – усмехнулся кто-то позади. – Раз берут пацанов – хана фрицам.
V РАСПЛАТА
Американцы с каждым днём усиливали бомбардировку Австрии. Самолёты налетали огромными стаями. Гул стоял такой, что другой раз не слышно собеседника. Мы видели, как «летающие крепости» десятками отделялись и разлетались в разные стороны. Истребители, словно мошкара, кружат вокруг них.
– И что они бомбят? – удивлялся Жорка. – Здесь нет ничего подходящего. Разве только горы?
– Значит, находят, что! – не согласился я с товарищем.
Между тем, с каждым днём всё слышней и слышней становится гул бомбёжек. Это говорило о том, что не за горами и наша очередь.
В середине апреля распространился слух – взяли Вену. Вслед за этим – новость. Бомбили узловую станцию Амштеттен. Это рукой подать до посёлка. Путь отступающим войскам и бегущим фашистам отрезан.
– Нам какое дело? – пожал плечами Жорка. – Бомбили – ну и что?
Оказалось, есть дело.
Железнодорожная станция была разгромлена основательно. Для её восстановления согнали тысячи людей из ближайших лагерей: восточных рабочих, военнопленных всех наций, узников из концлагеря Маутхаузен. Послали и от нас группу, в которую попал и я, как бывший рабочий на строительстве железной дороги.
Жорка оставался с Максом. Расставался я с ним с тяжёлым предчувствием, словно должно что-то случиться.
«Ну, что может произойти в этой глуши», – успокаивал себя. Так и уехал, в надежде, что всё обойдётся.
Пригородный поезд пробирался вперёд словно на ощупь. Останавливался, помощник машиниста выскакивал, проверял путь. Только после этого поезд продолжал движение. И всё же, к самой станции Амштеттен не довёз. Он приблизился настолько, насколько позволяли разрушенные пути.
Дальше мы пошли пешком, с лопатами и прочим инструментом. Обходили воронки от бомб, вывернутые на насыпи шпалы и покорёженные рельсы.
Чем ближе подходили к станции, тем удручающе картина. Подъездные пути полностью разгромлены. Пострадали и строения, прилегающие к станции. От депо остались куски бетона с торчащими рёбрами арматуры. Обгоревшие и опрокинутые остовы вагонов громоздились один на другой, а сверху – манёвровый паровоз. Кучи мусора, воронки, рельсы, как простая верёвка, завязаны в узел. Всё это создавало невообразимый хаос.
Я смотрел и не удивлялся. Мне уже приходилось видеть подобное в своей родной Керчи в октябре сорок первого года. Тогда в одночасье были уничтожены несколько кварталов жилья, хлебозавод, консервный, торговый порт, железнодорожная станция Керчь-I.
Товарищи, шедшие рядом, изумлялись, глядя на разрушения:
– Надо же так разгромить! Мы здесь прокопаемся до новых веников и ничего не сделаем
– А тебе хочется этого? – спросил другой с усмешкой. – Мне лично не очень.
Я пропускал мимо ушей эти разговоры, смотрел на чудом уцелевший перрон, и никак не мог сообразить, как это произошло, в то время, когда вокруг руины?
Пять дней мы копошились от рассвета до заката среди бессмысленного нагромождения металла, дерева и бетона, проделывая проход для транзитного пути. Следом укладывали шпалы и рельсы. Когда по новой ветке прошёл первый поезд, все участники работ разъехались по своим лагерям. Остались только концлагерники в полосатых одеждах. Работы на станции ещё не початый край.
Я успокоился тогда, когда сел в поезд и он, дав длинный гудок, натужно пыхтя, потащил полупустые вагоны. У меня на душе радостно, что всё обошлось благополучно.
В посёлок вернулись поздно вечером. Лагерь уже спал. На воротах нас встретил начальник полиции Гундияна. Он справился, как мы – сами уехали, или нас отпустили? Когда заверили его, что отпустили, он упокоился.
В бараке горела тусклая электролампочка. Стою в дверях и прислушиваюсь к храпу, доносящемуся отовсюду, и облегчённо вздохнул: «Наконец добрался».
Увидев лежащего ничком Жорку, невольно вздрогнул. Мне показалось, при плохом освещении, будто товарищ мёртв. Я подбежал к нему и схватил его за плечо.
– А? Что? Где? – подхватился друг. – Фу ты! – увидев меня, он разозлился. – Ты чего бросаешься на людей?
– Да так! – улыбнулся я.
– Чего лыбишься, как майская роза?
– Просто рад, что ты жив-здоров. Ты так спал, что мне показалось, будто неживой, и вдруг подхватился, как ошпаренный.
– Почти неживой, – вздохнул товарищ. – Сны дурацкие снятся. То вижу себя убитым. То падаю в пропасть и никак не могу достичь дна, и всё лечу, лечу. Надоело! Расскажи, как там дела, что происходит на свете? А то мы здесь, словно в дремучем лесу, ничего не знаем.
– Чего рассказывать. Станцию Амштеттен разгромили основательно. Фрицы драпают! Гражданские тоже. Только неизвестно, куда. Впереди американцы, а позади наши.
– Туда им и дорога! – перебил меня Жорка. – Без них тошно!
– Чего разнылся? Слей лучше, умыться.
Утром мы пошли на работу в усадьбу. Приехал на мотоцикле Макс.
– Нужно, – сказал он, – заканчивать недоделки, и сдать, к чёрту дом. Инженер не даёт мне жизни.
– Он что, с ума спятил? – вздохнул я. – Такое творится, а он…
– Как там? – перебил меня мастер и кивнул в сторону Амштеттена.
– Да как? – пожал я плечами. – Бегут! Куда, и сами не знают. Впереди американцы…
– Вот-вот! Многие решили, что лучше к янки. С ними можно договориться, а с русскими – как знать.
– А что такое янки? – не понял я.
– Это американцев так называют. Мне непонятно, зачем сейчас бомбить Австрию? И так всё ясно. Вон, русские, когда брали Вену, запретили бомбить город, и спасли его от разрушения.
– Откуда знаете про русских?
– Сорока на хвосте принесла. Радио зачем?
– Понятно! – вздохнул я. – А мне подумалось, что наши уже близко.
– Точно не знаю, но не так и далеко. Хватит болтать!
Работали мы усердно и дружно. Просто не хотели подводить хорошего человека. Плохого он нам не делал. Заботился, как мог, и зиму пережили с его помощью.
После десяти часов завыла сирена воздушной тревоги. Макс стал собираться, ворча:
– Когда это кончится? До чёртиков надоело, – сел на мотоцикл и уехал.
Самолёты появились на горизонте ровно в одиннадцать. Мы с крыши наблюдали, как от большой стаи отделялись десятки и разлетались в разные стороны.
– Эти, – вздохнул я, – будут Австрию бомбить.
– Возможно, – согласился Жорка.
– Не возможно, а точно! Основные продолжают лететь дальше, на Германию.
Налёт продолжался около четырёх часов. Макс вернулся расстроенный, глянул на меня и вздохнул:
– Собирайся! Опять на Амштеттен!
– Что-о?! – удивился я. – Снова разбомбили?
– Снова! Ты давай быстрей! Опоздаешь – расстреляют! Объявлено военное положение.
Я простился с Жоркой. Макс подбросил меня к лагерю на мотоцикле. И в самый раз. Опоздай я минут на десять, поезд ушёл бы.
В дороге ныло сердце. Предстояло опять разбирать завалы. На них уже тошно смотреть, но делать нечего.
«Убежать?» – мелькнула неожиданно мысль. Тут же отверг её.
Я знал, что бежать сейчас – верная смерть. Фронт! А что это такое, знал не понаслышке. Недаром Керчь называли фронтовым городом. Да и умирать в конце войны… Но вообще о смерти я не думал. Это понятие было чем-то отвлечённым – не для меня. Порой даже удивлялся – вокруг горы трупов, а я как заговорённый.
VI ВСТРЕЧА, КОТОРУЮ НЕ ЖДАЛ
Вновь я у разрушенной станции. К прежним руинам добавились новые. Опять согнали тысячи всякого люда: измождённых концлагерников в полосатой одежде, восточных рабочих, военнопленных итальянцев и французов. Удивляло – наших не было. Концлагерников охраняли эсэсовцы. Пленных – шуцманы-полицаи. К нам, восточным рабочим, приставили фронтовиков.
Я заметил, что солдаты менялись каждый день. Среди охранников были немцы, а однажды я заметил и власовцев.
Люди копошатся в завалах, растаскивая всякий хлам. Вдали шипит паровоз. Он подвёз на платформе рельсы. Их на руках подносят на очищенное пространство. Спешно укладываются шпалы и рельсы.
Я вбивал большим молотком с длинной ручкой костыли в шпалу. Охрана то и дело подгоняет. Когда я выбивался из сил, меня подменяли и давали лопату, засыпать воронки. И ни минуты отдыха.
Ночевали прямо на станции. Она окружена плотным кольцом солдат. И всё же были побеги. Я и сам посматривал – куда бы сигануть? Но тут же отвергал необдуманные поступки. И не напрасно. Нескольких беглецов расстреляли прямо на станции, а трупы оставили лежать в назидание.
Прошло три дня и ночи. Транзитная колея почти готова. Ждём подвоза рельсов. Отступающие войска обходят станцию, за ней садятся в поданный эшелон и следуют дальше.
Самолёты в эти дни не бомбили. Слышался гул стороной. Но народ с тревогой поглядывает в небо над головами. Там пока спокойно.
Работаю из последних сил. Кормёжка – баланда, которую подвозят в термосах. Кажется, ещё день-два – и испущу дух. Охранники безжалостны. В их интересах быстрей уехать. В плен к русским никому из них не хотелось. Особенно солдатам с нашивками на рукаве «РОА» – «Русская Освободительная Армия». Им пощады точно не будет. Плен для них – верная смерть. В лучшем случае – Сибирь.
Однажды среди «добровольцев», ещё их называли «власовцами», я увидел знакомое лицо. В этот момент загудели самолёты. Высокий худой парень в солдатской форме, задрав голову, следил за бомбардировщиками.
Я опустил молоток, которым забивал костыли и пристально всматривался в него. Вдруг узнал и прошептал: «Васька?»
Да, это был он. Мне хотелось окликнуть его, но горло перехватил спазм. Бывший напарник проявлял беспокойство, глядя на самолёты. Они летели прямо на нас. Мне было известно, что в таких случаях можно спастись только бегством. Наконец поборол удушье и крикнул:
– Васька!
Он вздрогнул и оглянулся. Увидев меня, затанцевал, перебирая ногами, словно застоялый конь, глядя то на меня, то на самолёты.
– Так это ты, кривая твоя душа?
– Са-а-нь-ка-а! – выговорил Васька и побелел, как стенка.
– На этот раз, – крикнул я, – не уйдёшь! Пришибу! Проломлю твою поганую башку вот этой штуковиной!
Я потряс над головой молотком и пошёл в его сторону. Зачем, и сам не знаю. Он, видимо, вспомнил камеру, где я его избил, и побежал.
– Стой, паразит! – кричал я, и воинственно размахивал, как индеец томагавком, большущим молотком.
Ударить его по голове, какой он ни гад, всё равно не смог бы. Рука на человека не поднялась бы. Разве что попугать, да морду набить. Это я ещё мог.
Васька бежал и оглядывался, а винтовка болталась у него за спиной и била его по ногам. Он смешно подпрыгивал и пытался сорвать её с плеча, но винтовка за что-то зацепилась ремнём и не поддавалась. Бывший напарник оглянулся и крикнул:
– Или отстань, или пристрелю!
– Ах ты, сволочь! – возмутился я. – Ещё грозится, трус несчастный!
Самолёты всё ближе и ближе. Мои слова потонули в гуле моторов. Васька побежал. Я продолжал преследовать его и за станцией. Мы мчались то ли полем, то ли пустырём – в горячке не разобрал. Попадались свежие бомбовые воронки. Справа, метрах в трёхстах, бежали солдаты и гражданские. Мы оторвались от основной толпы. Гул самолётов уже рядом.
Воздух сотрясли взрывы бомб. Васька, наконец, стащил с плеча винтовку. Я остановился и погрозил ему кулаком. Бывший напарник замер и уставился на станцию, где рвалось и гудело. Дым и пыль заволокли, словно туман, всё вдали. Я тоже глянул в ту сторону. Самолёты шли на второй заход, прямо на нас. Я отбросил в сторону молоток и растерянно озирался – куда бы укрыться. А бомбы уже воют, как недорезанные поросята. Раздался страшной силы треск. По привычке я открыл рот, чтобы не полопались барабанные перепонки. Вдруг меня швырнуло, словно камень, куда-то в пространство. Падая, ударился обо что-то головой. В глазах засверкали огненно-фиолетовые искры, а потом поплыли красные круги, и всё померкло.
Очнулся, когда солнце клонилось к западу. Тишину нарушали доносившиеся приглушённые голоса. Некоторое время лежал с закрытыми глазами, соображая, что произошло, и где, собственно, я? Память будто отшибло. Помнил только гул самолётов и разрывы бомб. Невольно подумал: «Не на том ли я свете?»
Открыл вначале один глаз, а потом второй и уставился в чистое голубое небо. Почувствовался горклый запах перегоревшей взрывчатки. «Живой!» – мелькнула мысль. И вдруг в груди сладостно стеснилось дыхание от сознания, что жив, и что-то бодрое разлилось по моим жилам, кровь застучала в висках, а страстная жажда жизни обволокла всё моё существо.
Стал ощупывать себя. Всё оказалось на месте: руки, ноги; только голова раскалывалась. Рука непроизвольно потянулась туда, где больше всего болело. Пальцы перебирали слипшиеся от засохшей крови пряди волос.
Издали послышался гудок паровоза. Я вздрогнул и подумал: «Это наш поезд. Пора возвращаться. Что будет, то будет!»
Сижу на дне воронки, куда забросила меня взрывная волна и осматриваюсь. И тут увидел свой молоток и усмехнулся: «Так вот обо что треснулся? Хотел Ваську «угостить», а попало самому. Кстати, где он?»
Выбравшись из ямы, увидел несколько свежих воронок, и нигде ни одного человека. Послышался повторный гудок паровоза. Не найдя Ваську, пошёл к тому месту, куда подходит поезд из посёлка.
Десятка через два шагов наткнулся на убитого солдата. Он лежал на спине, раскинув руки, уставившись остекленелыми глазами в небо. Подойдя ближе, узнал в убитом Ваську. Меня затрясло, как в лихорадке, и я побежал, временами оглядываясь.
Едва вскочил на подножку, вагоны дёрнулись, звякнули буферами и медленно покатились. Как ни ненавидел предателя, но по-человечески было жаль этого недотёпу. Человека, неприспособленного к жизни.
VII БЕДА ЗА БЕДОЙ
В посёлке из трёх вагонов поезда вышло человек двадцать. Всё, что осталось от сотни, которую посылали на восстановление дороги.
– А где остальные? – спросил я у знакомого парня.
– Кто их знает! – пожал он плечами.
– Поубивало? – продолжал я.
– Да нет! Наших мало погибло. Хотя есть. Большей частью разбежались. Говорят, фронт недалеко. Вот-вот здесь будет…
– Смотри, смотри, – перебил я мужчину. – Солдаты-фронтовики.
На нас надвигалось человек двадцать в касках и с автоматами на груди. Собеседник с изумлением глянул на меня:
– Откуда знаешь, что фронтовики?
– Насмотрелся за войну. Видишь, какие зачуханные! Тыловики всегда начищенные, аж блестят… Что-то они идут прямо на нас? – забеспокоился я. – Неужели возьмут под конвой за то, что бросили работу?
– Не может быть! – возразил собеседник.
Предчувствие, однако, не обмануло меня. Солдаты окружили нас, погнали в большое станционное строение, заперли и выставили часового. На все наши вопросы ответа не было. Охранник ходил туда-сюда, словно маятник, мимо окон и молчал, как глухонемой. Так голодные и заснули.
Утро выдалось хмурым. Высокие тучи курьерским поездом спешили за горизонт, словно на конвейере, не прерываясь. Но дождя не было.
Нас под конвоем повели на оправку. Я высматривал удобного момента для побега, но такого случая не представилось. Охранники опытные, и провести их не так просто. Зато увидел своего мастера.
– Макс! – крикнул я.
Тот вздрогнул и стал искать глазами – кто его окликнул. Увидев меня, обрадовался:
– Живой?! А говорили, будто вас всех…
– У тебя, – перебил я его, – поесть ничего нет? Сутки ничего не ел.
Мастер попросил солдат, чтобы разрешили нам отойти в сторону. Те позволили. Мы отошли к штабелю старых шпал и сели на них. Макс передал мне свой обед: четыре картошки в мундирах и бутерброд с маргарином и мармеладом.
Я уплетал за обе щёки торопливо, словно боялся, что отнимут. Макс смотрел на меня и молчал. Он изменился за эти дни: осунулся, щёки ввалились, нос заострился. Я это заметил, но ничего не сказал. Голод победил. Только когда покончил с едой, облегчённо вздохнул и спросил:
– Что-то стряслось дома?
– Дома всё в порядке. Вот здесь беда за бедой.
Я насторожился и с беспокойством спросил:
– С Жоркой что-то?
– Да, с ним. Погиб он!
Икнув от неожиданности, я удивлённо расширил глаза:
– Как погиб?! От чего? Вас же не бомбили?
– В том-то и дело, что бомбили. В тот день Жорка, как только объявили тревогу, рвался в лагерь, будто бы там у него неотложное дело. Я не пустил, словно предчувствовал беду, а когда ушёл на завод – он убежал и попал под бомбу.
– И сильно бомбили?
– Да нет! Налетел один самолёт. Видно, заблудился и сбросил несколько бомб. Падали они в реку и на завод, одна разорвалась на лагерных воротах. Вот она и накрыла Жорку.
Я беззвучно плакал, слёзы бежали по щекам, и, запинаясь, спросил:
– Где-е его-о похоронили?
– В лесочке, который за усадьбой. Я выбрал хорошее место. – И вдруг он спохватился. – Погоди! Тебя же нужно выручать, а я разговоры завёл.
Макс ушёл, а меня загнали в помещение, где томились мои товарищи. Я примостился в углу на какой-то ящик и плакал.
На меня обратили внимание. Один из мужчин поинтересовался:
– Ты чего?
Я глянул на него с удивлением, будто о моём горе должен был знать весь мир, и только он один не знает. Спохватившись, утёр рукавом слёзы и пробормотал:
– Дружка убило.
– Это кого? Случаем, не Жорку?
– Жорку!
– Жалко пацана, – посочувствовал мужчина и отошёл от меня.
Я перестал плакать и, задумавшись, уставился в угол, никого не замечая, словно вокруг пустота. Люди были и сочувствовали. А один со вздохом произнёс:
– Плачем горю не поможешь! Мёртвым уже хуже не будет, а вот что нас, живых, ждёт?
– Поживём, увидим, – отозвался кто-то в другом углу.
Кто говорил, не понять. В помещении сумрачно от пасмурной погоды, словно она скорбела о Жоркиной гибели.
Прибежал расстроенный Макс. В его руках небольшой свёрток. Он что-то говорил солдату, который нас охранял. Тот отрицательно мотнул головой. Макс огляделся и крикнул:
– Санька! Подойди к окну!
– Иду! – отозвался я и нехотя поднялся с ящика.
– На вот! – передал он мне свёрток в открытую форточку. – Здесь немного еды. Забрать тебя не могу. Не разрешают. Оказывается, ваш лагерь ещё ночью вывезли.
– Как, вывезли?! – удивился я.
– Будто был такой приказ! – развёл руками мастер. – Сейчас и вас будут отправлять. Только подгонят итальянцев и французов. Да вот и они.
Я глянул в ту сторону, куда показывал Макс. И, правда, с сотню человек брели под конвоем. Все в шинелях без хлястиков. Сразу видно, что военный облик они давно утеряли. Их гнали прямо к тем вагонам, на которых мы приехали из Амштеттена.
Закопошилась наша охрана, приказала покинуть помещение и погнала нас к поезду. Макс шагал рядом и что-то говорил. Я ничего не слышал. Моя голова была занята мыслями о Жорке, о нашей неизвестной доле. И видимо потому в моих ушах гудело и шумело, словно далёкий примус.
В вагоне пробрался к окну и увидел Макса. Он беспокойно осматривал окна. Я опустил стекло и крикнул:
– Макс! Я здесь!
Мастер обрадовался, словно увидел не своего подсобного рабочего, а родственника. Я сердцем почувствовал, что он искренне сочувствует мне, но ничем не может помочь. Он приглашал заходить к нему домой. Но когда называл свой адрес, загудел паровоз. Что-либо разобрать невозможно.
Вагоны дёрнулись, звякнули буферами и покатились, убыстряя бег. Мастер не отставал и что-то кричал. Я показал на уши и развёл руками, давая понять, что не слышу, и крикнул:
– Прощай, Макс!
Не знаю, понял он или нет, но остановился и помахал рукой. Я ответил. Больше мы с Максом не встречались. О нём, о Жорке остались одни воспоминания. Мёртвым я товарища не видел. В моей памяти он остался живым – добрым и немножко неповоротливым.
VIII РАЗГРОМ
Поезд монотонно стучит на стыках рельсов колёсными парами, и стук болезненно отзывается в моём мозгу. Меня одолевают тяжёлые тревожные думы о неопределённости нашей участи: «Куда нас везут и зачем?»
Смотрю в окно и вздыхаю. Со склонов предгорья спускаются ровные ряды виноградников. Ещё ниже зеленеют озимые поля, деревья отцвели и покрылись буйной листвой. Но радости не приносит обновление природы, когда на сердце камень.
Не доезжая станции Амштеттен, поезд остановился, как обычно в последнее время, перед развороченной бомбами колеёй. Охранники приказали перейти на магистральную дорогу, где нас ждали товарные вагоны с пыхтящим паровозом. Он временами выпускал облако пара, а из трубы вился сизый дым.
Как только вагоны заполнились, локомотив дал гудок и покатил нас в неизвестность. Вот она-то и угнетала.
Ночь простояли на небольшой станции в тупике, с закрытыми дверьми. Видимо, чтобы не разбежались.
Утром в узкое окошко заглянуло солнце. От туч осталось одно воспоминание. Чувствовалось тёплое дыхание лёгкого ветерка.
Через некоторое время к нам прицепили ещё три вагона с пленными итальянцами. Паровоз дали около полудня, и поезд медленно покатил от станции до станции. На каждой из них, на перронах битком набито народу с детьми и баулами. Наш поезд брался штурмом. Солдаты отпугивали охваченных паникой беженцев автоматными очередями поверх голов. Эта мера отрезвляла нападающих. Эшелон двигался дальше. Беженцы оставались на перроне в ожидании следующей оказии, а её могло и не быть: дорога разрушена, за нами поездов нет…
Куда нас везли, мы не знали, а главное, – зачем? И так видно, что Германия потерпела полное поражение. Один из товарищей по несчастью зло проговорил:
– Наложили фрицам по первое число, а они ещё шебуршатся!
– Неужели, думают, что ещё вернутся? – усмехнулся другой.
Я не стал прислушиваться к пустому разговору и уставился в окно. Товарные вагоны, в которых мы ехали, оборудованы нарами в два этажа. Я забрался на второй этаж у окна. Смотрю в него безразличным взглядом, а в глазах туман. Оживлялся, когда на станциях начинался штурм нашего эшелона. Меня смешило трусливое бегство богато одетых мужчин, а однажды подумал: «Видно, нацисты! Видимо, есть, чего бояться».
Вторую ночь опять провели в тупике, и опять не кормили. Меня выручала передача Макса. В ней было десятка два картофелин в мундирах, кусок хлеба с килограмм и щепотка соли.
В первый день кое у кого была еда. На второй все смотрели на меня голодными глазами. Эти взгляды мне были знакомы. Оставил себе пару картошек и кусок хлеба. Остальное передал на всех.
Теперь и у меня ничего не было.
Наконец, поезд пошёл транзитом, не останавливаясь, проскакивал станции. И вдруг, среди пустынного поля, едва миновали небольшой мостик через ручей, – заскрипели тормоза, вагоны дёрнулись, словно упёрлись в преграду, и замерли. Паровоз отрывисто загудел, подавая сигналы воздушной тревоги. Люди, как горох из дырявого мешка, посыпались на землю.
Спрыгнул на насыпь и я. Прямо на нас летели американские истребители. Они на бреющем с рёвом пронеслись над поездом, и пошли на разворот для второго захода.
Люди разбегались, кто куда. Побежал и я к мосту. Только нырнул под него и забился в промоину в береге, послышался рёв моторов и пулемётные очереди. Плотней прижимаюсь к матушке земле, ожидая бомбового удара. Но его не последовало. То ли бомбы использованы раньше, то ли истребители вообще не вели бомбометание.
Сколько налетело самолётов, не успел заметить, но по звуку определил, что не один. Лежал до тех пор, пока не убедился, что заход не повторится.
Когда выбрался из-под моста, моему взором предстал полный разгром: из пробитого пулями котла паровоза, как сквозь решето, с шипением вырывался пар; вагоны тоже продырявлены, в поле множество лежащих людей, некоторых начали сносить к вагонам. Среди них были и наши, и военнопленные. Без слов было понятно, что это раненые.
– А те? – спросил я у проходящего мужчины, кивнув на поле.
– Убиты! – отозвался тот.
Теперь мы оказались предоставлены самим себе. Паровоз негоден, бригада с него исчезла, и охранники сбежали.
Мужчины нашли на паровозе лопаты и к вечеру похоронили убитых. Ночевали в разгромленном эшелоне. Некоторые, более рисковые, ушли и больше не вернулись. Я решил никуда не ходить, а ждать, что будет.
IX ЭДЕМ, ДРУГ!
Только на другой день, после полудня, подали паровоз. Пришёл он не один, а притащил небольшой пассажирский вагон, и в нём человек двадцать гражданских австрийцев. Прежде чем тронуться в путь, нас переписали, сосчитали убитых, составили акт, будто он кому-то нужен в эту минуту. Только после этого загудел паровоз, дёрнулись вагоны и медленно покатились.
Ехали недолго – часа полтора. Станция встретила нас заполненным до отказа перроном. Над ним стоял гул, словно в потревоженном пчелином улье.
Люди насторожились, глядя на поезд, и готовы были атаковать его, но машинист не остановил паровоз, а потянул состав дальше.
Едва мы успели выгрузить раненых и отойти от вагонов, как нахлынула гомонящая толпа с чемоданами, баулами и рюкзаками за плечами. Поезд облепили, словно мухи липучку. Мужчины полезли на крыши, висели, как гроздья винограда, на подножках тормозных площадок. Паровоз загудел и поезд покатил дальше.
Я оглянулся. На перроне остались женщины с детьми. Некоторые плакали, а другие махали своим мужчинам руками. К ним подошёл железнодорожник и что-то сказал. Женщины, захватив свои вещи, ушли. Больше я не оглядывался.
На пристанционной площади прибывших разделили: пленных повели в одну сторону, а нас в другую.
Сопровождающие раздобыли носилки для раненых. Их несли по очереди. Уставшие и голодные, мы с большим трудом передвигали ноги, но никто не отказывался нести товарищей.
Попытался и я взяться за одну ручку носилок. Подошёл мужчина в солдатской шинели и видавшей виды шапке ушанке.
– Погоди! – отстранил он меня. – Дай мне. Ты сам едва плетёшься.
Возражать я не стал. Не отстрани он меня, я нёс бы до тех пор, пока хватило бы сил или не упал.
Часто замечал, что нас, малолеток, взрослые жалели. Вначале я воспринимал это как должное, а когда осознал, в чём дело, удивился, что в такое трудное время находятся люди, которым не безразлична судьба подростков.
Мы обошли город окраиной, и вышли на дорогу, которая привела к лагерю. По другую сторону от него – густой еловый лес.
Наши не знали, как называется город. У австрийцев спросить я не решался. Они были чем-то озабочены и ни на какие вопросы не отвечали.
Лагерь оказался большим, обнесённым в два ряда колючей проволокой. По углам – вышки с прожекторами и охранниками с автоматами. Сразу понял, что здесь всё не так, как было у нас. Вздохнул и подумал: «Переживём и это. Не то видели».
В лагерь нас пропустили через ворота. Только за нами закрылись створки из досок с колючей проволокой, – стали. Из караульного помещения вышел какой-то начальник. Ему доложили о прибывших. Он распорядился раненых отправить в лазарет, а нас – по баракам, где есть места.
В стороне от караульного помещения стояла толпа местных рабочих. Они с интересом смотрели на новичков, а как ушёл начальник, посыпались вопросы: кто мы, откуда, что с нами произошло и почему у нас раненые. И вдруг, перекрывая гул голосов, окликнули меня:
– Са-а-нька-а!
Расталкивая мужчин, бритых и заросших щетиной, вперёд пробирался паренёк. Увидев его, я и рот раскрыл от удивления. Поборов волнение, крикнул:
– Эдем, друг! Живой?
Мы бросились друг к другу и обнялись, как родные братья, которые встретились после долгой разлуки.
– Опять вместе, – бормотал я от радости. – Теперь и домой…
– Сильно ты быстрый, – перебил меня друг. – Тебя фрицы отпускают домой?
– Вы ничего не знаете?
– А что?
– Сегодня какое число?
– Кажется, двадцать девятое апреля, – отозвался Эдем
– Уже полмесяца, как наши взяли Вену, а тут у вас…
– Иди ты! – удивился друг. – То-то, смотрю, последнюю неделю нас на работу не берут?
– Что это за город?
– Линц. Город большой и промышленный.
– Вас бомбят?
– Да нет! Однажды налетело несколько самолётов и всё.
Вновь прибывшие разошлись. Только мы с Эдемом остались на плацу. Потом друг спохватился:
– Пошли быстрей! У нас есть место, а то займут.
Эдем определил меня на пустые нары первого этажа. Хотя и не любил я низкие места, но чтобы остаться с товарищем, пришлось согласиться. Он суетился около меня, притащил матрац с подушкой, раздобыл одеяло и всё твердил:
– Ну, судьба-разлучница, – не вышло по-твоему! Опять мы вместе, и домой вместе…
– Эдем! – перебил я восторги друга. – Как ни странно, но я опять без вещей и голодный, как сто собак вместе!
– На этот раз у меня сала нет, – усмехнулся он. – Могу предложить кусок хлеба и маргарин. Будешь?
– Спрашиваешь у больного здоровье! Почти два дня не жравши! Первый день и чуток второго перебился харчами Макса.
– Кто такой Макс?
– Мастер мой. Во, мужик! – показал я большой палец.
– Нам тоже помогают австрийцы. Хотя и сами не очень, – вдруг он спохватился. – Соловья баснями не кормят!
Я жевал чёрствый хлеб с маргарином, а Эдем топтался около, но не мешал. По его лицу было видно, что он хочет что-то спросить. И только когда я закончи, он упрекнул:
– Ты чего не ответил на мои письма?
– Какие письма? – изумлённо посмотрел я на него.
– Как, какие? Я писал в Штрасгоф!
– А-а! Вот ты о чём! Так нас на третий день после вас отправили.
– Тогда прости! А мне чудилось чёрт знает что! И куда ты попал?
– Недалеко от Амштеттена. Знаешь такой город?
– Слыхать слыхал, но не был.
– Этот город у меня вот здесь сидит! – хлопнул я себя по загривку. – Вначале попал в посёлок неподалёку от него. Там определили в горячий прокат – убежал. А теперь, когда разбомбили его станцию, восстанавливал пути…
– Ты что, убегал?
– Да! И в тюрьме успел посидеть…
Я рассказал товарищу обо всех своих злоключениях. Эдем слушал и вздыхал. Когда я поведал ему о Ваське, он усмехнулся:
– Мы с тобой ушли бы к нашим. А что Васька? Куда он делся?
– Во власовцы подался. Я его встретил на станции Амштеттен. Хотя о покойниках не говорят плохо, но он был гадом!
– Что, он умер?
– Бомбой накрыло дней пять назад.
– Собаке собачья смерть! – заключил Эдем.
– При чём собака? Она друг человека…
– Это к слову. Так принято говорить. Если он был сволочью – хоть живой, хоть мёртвый – остаётся ею.
Мы ещё долго говорили, изливая друг другу душу. Я узнал, что Эдем работает сверловщиком на заводе. Что последнее время нет металла и они без работы, о чём не жалеют.
– Кормят? – спросил я.
– Кормят. Только на такой еде ноги протянешь.
– Что-то не видно, чтобы ты умирал с голоду.
– Австрийцы помогают. Нам дают увольнительные. Субботу и воскресенье мы пропадаем у бауэров. Вот и разживаемся кое-чем.
– Понятно! – отозвался я. – Мы тоже так же прожили зиму.
– Да-а! – спохватился товарищ. – Как желудок, режет?
– Представь, – успокоился!
– Ну и хорошо! Сейчас на пищеблок и спать.
X ПЕРВОЕ МАЯ!
Утром, когда я проснулся, Эдем за столом чистил картошку. В бараке никого не было. Я потянулся и громко зевнул.
– А, проснулся! – улыбнулся товарищ. – Вставай! Ты забыл, какой день сегодня?
– Какой? – не понял я.
– Первое мая!
– Здрасти! Ты же вчера сказал – двадцать девятое?
– Ошибся! Просчёт получился. Когда работаешь – ждёшь выходного. Дни считаешь.
– Это точно, – согласился я. – Ты что затеваешь?
– Праздник сегодня. Давай устроим пир! Нажарим. Или ты против?
– Покажи мне того дурака, – усмехнулся я, – который откажется от такой вкуснятины! Моя бабка, когда ей что-то нужно было от меня, знала, чем меня купить.
– И чем же?
– Жареной картошкой! А ты говоришь «не против?» Попал в самую точку.
Мы соорудили во дворе из нескольких кирпичей очаг. Эдем принёс большую сковородку. Я сидел на каком-то бревне и наблюдал, как товарищ помешивает шкворчащую картошку. Аромат от неё ударил в нос. Неожиданно сердце сжалось, а из глаз потекли слёзы. Я утёр их и глубоко вздохнул.
– Ты чего? – забеспокоился Эдем.
– Да так! Вспомнил друзей. Прошлым летом вот так, жарили картошку, строили планы, и вот их нет…
– А где ж они? В другом лагере?
– Дед Степан простудился и умер. Мировой был старик! Многому научил меня. Жорку, – наш ровесник, – так его бомбой…
– Да-а! Житуха! – согласился товарищ. – Сегодня ходишь, а завтра, как муху, хлоп и нету.
Так неожиданно помянули моих погибших друзей. Эдем к этому отнёсся очень серьёзно. Он даже стал на колени, сложил руки лодочкой и, кланяясь земле, что-то шептал по-татарски. Когда он закончил, я спросил:
– Ты что это делал?
– Просил Аллаха, чтобы не обижал их.
– Что, веришь в бога?
– Да как тебе сказать? Скорей, по привычке. Отец гонял меня и заставлял молиться.
В тот день унынию предавались недолго. Люди собирались кучками, пели песни, – наши песни. Мужчины даже слегка выпили. Где они взяли спиртное, осталось загадкой. Короче говоря, праздник состоялся. Нам никто не мешал. Охрана с вышек исчезла. Стоял один полицай на воротах и всё. Я, как новичок, не знавший местных порядков, не обратил на это внимания. Зато Эдем сразу приметил:
– Куда это охранники с вышек пропали?
Мужчины, певшие «Стеньку Разина», не прерывая пения, глянули на вышку и пожали плечами, а один сказал:
– Тоже празднуют.
– Не думаю! – отозвался другой певец. – Им сейчас не до праздников.
– А может, и празднуют? – бросил кто-то из компании.
– Нет! – не согласился я. – Просто драпанули. Боятся расправы!
Песня оборвалась, мужчины удивлённо глянули на меня. А самый пожилой спросил:
– Ты кто такой, умник?
– Это неважно! Но кое-что повидал, – я помедлил и добавил. – Живёте вы здесь, как у Христа за пазухой…
– Это почему? – перебил меня мужчина.
– Вы же не знаете, что полмесяца тому назад наши Вену взяли? Ни тебе бомбёжек… – я вздохнул. – Выйдите на железную дорогу и посмотрите, что там творится!
– Может быть, всё и так, – продолжал мужчина. – Наши охранники не заслужили расправы…
– Зато мы разные! – вставил подошедший Эдем. – Всем не угодишь!
– Это правда! – согласилась компания.
Постепенно разговор перешёл на другое. Мы подсели к ним и тоже пели песни. Такие, которые давно не слышали и стали забывать.
XI БЕЛЫЕ ФЛАГИ
Проснулся я в то утро с восходом солнца. Проснулся словно от толчка. Испуганно вскочил, сел на постели, больно ударившись головой о потолок второго этажа нар. А сердце трепыхается, как пойманная рыбка на крючке. Потёр рукой ушибленное место и подумал: «Что это было? А, ерунда…» – отмахнулся я.
В бараке изо всех углов слышался храп. В окно заглянуло солнце и заиграло с пылинками. Я быстро оделся и бесшумно выскользнул за дверь.
На улице тихо и тепло. Светило взошло уже высоко и согревало своими лучами землю. С юга, из-за Дуная, ощущается тёплое дыхание воздуха. Так было приятно, что казалось, в этот день никаких забот, а только отдых после стольких лет войны. Я потянулся и с блаженством крякнул:
– Красота! Погодка что надо!
Лагерь спал. Последние дни на работу народ не ходил, кроме поваров и лагерной обслуги.
У одного барака сидели пожилые мужчины. Они грелись на южной стороне строения, курили самокрутки и о чём-то тихо беседовали.
Меня их байки не интересовали. Хотелось самостоятельно ознакомиться с лагерем. Мне почему-то казалось, что я должен изучить каждую мелочь. Вообще-то, это вошло у меня в правило – на всякий случай. Авось, пригодится.
Осмотрел я несколько улиц и переулков. Не найдя ничего интересного, направился к пищеблоку. Но, не доходя до него, резко остановился. Над моей головой что-то зашуршало и обдало горячим воздухом. Уж очень знакомое явление. Пока соображал, где-то вдали бухнуло, а вслед за тем, со стороны города, раздался взрыв. Сразу стало понятно. Начала обстреливать артиллерия, но чья, определить трудно.
Произошло это второго мая.
Лагерь всполошился. Люди выскакивали из бараков и спрашивали друг друга: «Что случилось?» Все пожимали плечами и не могли ответить. Из двери выбежал Эдем, на ходу надевая пиджак. Увидев меня, спросил:
– Что взорвалось?
– Снаряд!
– Какой снаряд? – удивился товарищ.
– Обыкновенный! Из дальнобойной пушки.
В этот момент опять зашуршало над лагерем. Эдем глянул на меня с недоумением:
– Что это?
– Снаряд! Сейчас взорвётся.
Далёкий взрыв, словно воздушной волной, сдул народ с улиц. Все поспешили попрятаться. А я стоял, как вкопанный. Рядом Эдем.
– Мы чего не прячемся? – забеспокоился он. – Снаряд может упасть и к нам?
– Может. – подтвердил я. – Но только не услышишь шуршания. Накроет, и прямиком в рай.
– Откуда ты это знаешь?
– Откуда? – усмехнулся я. – В сравнении с тем, что мы пережили в Керчи, это – детская игра в одну пушку.
Стреляло орудие, словно по расписанию. Минут через пятнадцать, двадцать рвался снаряд. Мы с Эдемом сидели под бараком на солнечной стороне, курили самокрутки и толковали о том, о сём, но большей частью о скором освобождении. Я спросил его на всякий случай:
– Может, пойдём в убежище?
– Как ты думаешь, – вместо ответа спросил товарищ, – откуда бьёт пушка?
– Определить трудно. Но, насколько я знаю, за тридцать или двадцать километров. Выходит, фронт недалеко.
– Мне всё ещё не верится, что доживём до конца войны.
– Постучи по деревяшке, – прикрикнул я на него. – А то сглазишь!
– Ерунда всё это, – вздохнул Эдем, – суждено – выживем, а нет – значит, не судьба.
– Ты прав, – согласился я. – А хотелось бы. Ты помнишь, как нас вывозили из Севастополя?
– Ещё бы! Помню, как мы говорили, когда скрылся крымский берег, – если останемся живы – обязательно вернёмся домой!
– Должны вернуться! – твёрдо заверил я. – Как иначе?
И вдруг, неподалёку от нас, взорвался снаряд. Я, как сидел, так и повалился на землю. В голове загудело, в ушах зазвенело, по спине забарабанили комья глины. Было больно, но я терпел. Когда опасность миновала, – глянул на Эдема и остолбенел. Товарищ лежал, раскинув руки. На левом его боку рубашка алела от крови. Я бросился к другу. Он открыл глаза и прошептал:
– Вот и всё. Это конец…
– Ты что! – перепугался я. – Ты молчи. Сейчас позову ребят, и мы отнесём тебя в лазарет!
– Не надо, Санька. Я знаю, что говорю…
– Мы ещё, – стал успокаивать я его, – домой поедем.
Но тут разорвался ещё снаряд, значительно дальше. Я машинально прикрыл собой Эдема. Когда опали комья земля, – глянул на друга и оторопел. Он лежал на спине, раскинув руки, и смотрел остекленевшими глазами в чистое голубое небо.
Несовместима смерть с моментом, когда природа возрождается и зацветает. Это меня потрясло. Брызнули слёзы. Я размазал их по лицу и закрыл Эдему глаза.
Нет. Я не плакал. Почему? И сам не знаю. Видимо, за войну зачерствело сердце от вида смертей. И пройдёт немало времени – пока оно оттает…
Хоронили Эдема ночью. Пушка в это время молчала. С утра всё население лагеря сидело в бомбоубежище. Случай с моим товарищем напугал народ. Никто в конце войны не хотел умирать.
Что удивительно, – в лагерь больше не упал ни один снаряд. Эти два будто специально забросили, чтобы убить Эдема.
В полдень обстрел неожиданно оборвался. Сразу стало тихо до звона в ушах. Голодные люди не решались покинуть убежище. Только когда уверились, что обстрел прекратился, – вышли.
Первое, что я увидел – на крышах городских домов белые простыни, и усмехнулся:
– Что это, австрийцы простыни сушат на крышах?
– Нет, парень! Отозвался кто-то в толпе. Здесь дело серьёзное. Ты глянь на балконы.
Я перевёл взгляд ниже и удивлённо выдохнул
– Флаги! Белые флаги. Совсем ничего не понятно!
– А что тут понимать? – продолжал всё тот же голос. – Город сдаётся на милость победителя.
– Вот оно что? – удивился я. – Выходит, войне конец?
– Выходит, – подтвердил рядом стоявший мужчина.
– Жалко Эдема! – вздохнул я. – Осталось самую малость…
– Каждому своё! – продолжал всё тот же дядька.
Он ещё что-то говорил, но я его не слушал, а с грустью думал: «Да-а! моя мудрая бабка говорила: «Судьба штука серьёзная. Она не шутит. Смерила каждому от и до, и ни минуты больше…»
Все мы, остарбайтеры, ждали конца войны. Каждый представлял его по-своему. Я тоже думал, что это произойдёт как-то по-другому, а так – не ожидал. До обеда грохотали пушки и рвались снаряды, а после полудня навалилась тишина…
Народ не верил, что, наконец, кончилась война. И это правильно: ещё где-то шли бои. Слышалась приглушённая канонада.
Люди стали расходиться. Поплёлся и я следом, чувствуя в душе пустоту после смерти товарища. Но унывал недолго. Меня подбодрило то, что впереди ждала дорога домой. Об этом стоит поговорить отдельно.
КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ