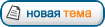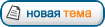Александр Бойченко-Керченский
ИЗГОИ
ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО
НА ЦЕЛИНУ
Стояло жаркое лето. Солнце с убийственной жгучестью палило землю. На выгоревшем до бесцветности небе ни тучки, ни захудалого облачка. Дождей нет уже давно. Горят высохшие травы. Горожане в самую жару устремляются к морю, чтобы поболтаться в воде и позагорать на пышущем жаром песке.
И вот в эту изнуряющую пору, когда казалось, что у человечества нет других забот, как бороться с жарой, объявили неурочный набор в армию. Обычно берут весной и осенью. Люди пожимали плечами, но новобранцев готовили. Армия – это серьёзно.
По народному обычаю, при проводах застолье длится всю ночь. На заре всей компанией, с песнями под гармошку или баян, в военкомат. По дороге устроят и танцы, всполошив население. Люди с пониманием относятся к этому и не скандалят…
Керченский военкомат забит народом под завязку, как говорят. Здесь призывники и провожающие, есть и просто зеваки. Гул голосов такой – хоть уши затыкай. Сквозь этот шумный хаос прорывается и песня под пиликанье гармошки. И вдруг – зычная команда:
– Ста-а-а-но-о-о-вись!
Поцелуи, рукопожатия, пожелания доброй дороги и стопка «на посошок». Будущие солдаты толпятся, как неразумная отара овец, и кое-как построились.
На середину строя вышел старший лейтенант со списком и начал перекличку. Наконец, вызывают и нашего героя:
– Ковбаса Вячеслав Иванович!
– Тута! – ответил он.
Старший лейтенант удивлённо глянул на него и поправил:
– Не «тута», а «я»! понятно?
– Так точно! – отозвался Вячеслав.
Парень он рослый, худощавый, лоб высокий (о таких говорят: ума палата), нос прямой, подбородок слегка заострён, плечи широкие, руки, видно, сильные…
Рассмотреть как следует не дала команда:
– Нале-е-во! Справа по одному заходить в автобусы!
Толпа всколыхнулась, как единое существо. Заговорили и заголосили все сразу, понять что-то было невозможно.
Мне вспомнилось, как я провожал отца в сорок первом; происходило то же самое, но тогда была война, а сейчас?..
Призывники заполнили автобусы. Зарокотали двигатели, и машины одна за другой медленно двинулись, окружённые толпой. Но вот они вырвались из людских объятий и скрылись за поворотом.
Всходило солнце из пролива, казалось, будто оно ночует в керченских водах. Полнеба окрасилось в розово-золотистые тона. С моря легонько задышал жаркий бриз. День обещал быть знойным.
Я прислушался к рассуждениям толпы, чтобы узнать истину о неурочном наборе. Всякие высказывались предположения. Одно заинтересовало меня. Говорил представительный дядька в белой безрукавке с цветным галстуком на шее.
– Это спецнабор! – объявил он со знанием дела.
– А куда? – посыпалось со всех сторон.
– На целину. Говорят, такой урожай, какого мы отродясь не видели.
– Дай Бог! – послышались голоса. – Стране хлеб нужен…
Ну что ж: автобусы ушли, провожатые стали расходиться, кто под песню, а кто просто так. Я подумал: «Нам остаётся ждать первого письма, чтобы узнать истину».
ПИСЬМА ВЯЧЕСЛАВА
«Здравствуйте мама и Нелля!
Я уже на месте, то есть, в колхозе, на целине. Нас группа сто пять человек, все крымчане. Работа бывает разная. Пока на сене: кто сгребает сухое в копички, другие перевозят и скирдуют.
Дней через десять начнётся уборочная. Хлеба здесь море. Столько, что прислали автомашин на область двадцать тысяч для перевозки зерна. Ток для приёма урожая уже готов. Но одно плохо: все работы будут производиться вручную.
Живём за деревней в палатках. Деревня очень живописная, словно нарисована на картине. Дома глинобитные, окружённые деревьями и кустами. У каждого перед фасадом палисадник с цветами. Стоит она на речке Ишим – притоке Иртыша. Река быстрая, вода, как слеза, и холодная, словно ледяная. За рекой, на правом берегу, холмы, на которых стоят, как невесты в белом, распустив зелёные ветви, будто волосы до пояса, красавицы берёзы. На левом берегу наш лагерь.
От лагеря на запад равнина, как стол, до самого горизонта. На ней, сколько глаз видит, – пшеница, одна пшеница в рост человека, словно бескрайние заросли камыша.
В колхозе под зерновыми девятнадцать тысяч гектаров, а колхозников двести сорок человек, вот и прислали нас на подмогу. Такую прорву урожая им в одиночку не осилить.
Пишу письмо. Сегодня не работаем, что не часто бывает. Идёт дождь. Он хлещет по палатке, словно бичами, так, что она аж гудит, как барабан. Дни здесь жаркие, даже знойные, а ночи холодные – хоть тулуп надевай. Пока мы ночью не работаем.
Жизнь солдатская скучновата и однообразна. Больше писать не о чем. Помню, сеструля, ты делала записи о нашей жизни, если это можно назвать жизнью, во время войны, в Германии. Так вот. Я начинаю забывать. Малой тогда был – не всё помню. Ты не могла бы прислать их мне? Прочитаю – всё вспомню. Такое не должно забываться. С большим солдатским приветом к вам Славик!
Второго августа 1956 год
Казахстан».
Да-а-а! Такое не должно забываться. Потомки должны знать о фашизме всё, обо всех злодеяниях, сотворённых ими. Я сам бывший остарбайтер, и не понаслышке знаю о жизни наших людей в неволе.
Правильно делает Вячеслав Иванович Ковбаса, что обратился с просьбой к сестре. А пока письма. Солдатские письма и нетерпеливое ожидание весточки от родных…
«Здравствуйте, мои дорогие!
Сегодня пишу вам третье письмо, а ответа ещё не получал ни на одно. Сейчас сижу и думаю: о чём бы написать? И решил описать солдатскую жизнь. Пока нет ни строевых, ни других военных наук. Начинается день с подъёма в шесть утра, зарядка, умывание, завтрак, в восемь часов на работу.
Работаем порядочно – уборочная в самом разгаре. Кончаем в девять вечера – это уже темнота, хоть глаз выколи, как говорят. Вот потому письмо написать можно только во время отдыха.
С завтрашнего дня работаем и в ночную смену. Это немного трудней. Ток плохо освещается, и к тому же, ещё холодно.
Кто-то из ребят заикнулся о холоде, а старшина усмехнулся: «Меньше отдыхать будете». И он прав. Солдату не страшны ни холод, ни жара. Вы не думайте, что здесь адские условия. Конечно, не то, что дома, но жить можно. Иначе в армии и не бывает. А сила армии в духе солдат. У нас дух как раз такой, какой необходим русскому человеку.
Очень жаль, что не могу писать длинных посланий. Хочется увидеть вас, поговорить… Было бы здорово!
Ваш Славик!
Зовут на работу.
Сеструля, с нетерпением жду от тебя послания».
Солдатское терпение и заключается в том, чтобы надеяться и ждать. Письма из дома – как бальзам на сердце. Сразу вспоминаются дорогие лица, и наваливается на солдата тяжёлой глыбой тоска по дому. Но он вздохнёт, стряхнёт с себя ненужную тоску и продолжает службу. А письма от родных не дают покоя. И вот, наконец, долгожданное. Солдат тут же старается ответить.
«Здравствуйте, мама и Нелля!
Вчера, то есть двадцатого августа, получил от вас первое письмо, которое шло восемь дней, за что очень благодарен.
Работаю на току. Вначале косят рожь и ячмень, а через несколько дней пойдёт пшеница. Тогда держись.
Письмо получается нескладное. Ничего не поделаешь. Жизнь однообразная. Новый день похожий на прошедший.
Сижу на куче зерна и смотрю на речку, и вспоминаю наше море. У нас сейчас ещё купаются, а здесь невозможно – вода, как лёд, аж кожу обжигает.
Нелля, ты спрашиваешь, что мне прислать из вещей? Ничего не надо. У нас всё есть. Вышли записи твоих воспоминаний. Другой раз ребята просят рассказать о нашей жизни в неволе, а я не всё помню. Мои тридцать минут отдыха кончились. Зовут.
Ваш Славик!
Целина».
БАНДЕРОЛЬ СЕСТРЫ
О письмах можно говорить бесконечно. Они бывают разные: радостные и скорбные, простые и заказные, девичьи и солдатские, любовные и злые…
Не стоит говорить, с каким нетерпением ждёт солдат весточку от родных и близких. Вячеслав Ковбаса не исключение. Каждый приход почтальона встречает вопросом:
– Мне есть что-нибудь?
– Пишут! – получает в ответ.
Солдат вздохнёт, и продолжает крутить опостылевшую веялку. И, наконец, о, радость до потолка! – бандероль.
Только автор не может понять – в чём состоит радость? В воспоминаниях нет ничего весёлого. Жизнь остарбайтера в неволе – не сахар: издевательства, побои, каторжный труд, голодное существование… Скоро мы узнаем, что пришлось пережить их семейству.
Славик, не читая, с радостью принялся за письмо. И впрямь, забыл малолетка лихолетье.
«Здравствуйте, мои дорогие!
У меня радость. Получил, Неля, твою бандероль. Теперь письма буду писать реже. Я должен прочитать твои записи, сеструля. Теперь о нашей жизни.
Сегодня двадцать четвёртое августа. Утро. Ещё не начали работу на току. Вчера солнце садилось за багряно-красный горизонт. Думали, утром будет ветер или мороз. Но не случилось ни того, ни другого. Погодка на все сто. Светило изрядно припекает.
Сижу на бурте пшеницы и пишу. Столом служит моё колено. Потому строчки получаются кривые и косые. Извините. Иду работать. Через час допишу…
Вот и освободился, постараюсь за пятнадцать минут закончить. Должен вот-вот подойти почтальон и забрать письма, а потом успею отдохнуть.
Сейчас работаю на веялке. Это такая тварь, которая жрёт очень много пшеницы и человеческих сил. До того устаёшь, что идёшь от неё и качаешься. Но ничего, за час наберусь сил и вновь за рукоятку веялки вместо мотора.
Немножко о солдатской пище. Не беспокойтесь – кормят хорошо: в обед на второе дают по хорошему куску свинины или баранины. Вечером каша пополам с мясом. Иногда дают молоко. В колхозе коров мало. Больше овцы и свиньи.
Вообще-то, за меня не волнуйтесь. Солдат есть солдат, и он преодолеет все тяготы. Такая уж наша доля – служит Отечеству.
Кончаю писать. Вдали показался почтарь. Если долго не будет писем, не переживайте. Вы должны знать, что я буду читать в минуты отдыха.
До свидания!
Казахстан».
В рукописи была записка: «Дорогой брат Славик! Я начинаю записи с первого дня войны. Тебе полезно знать, какая беда навалилась на нашу семью, и что происходило вообще в городе. Тебе тогда было четыре года. Узнаешь, как нас бомбили, как вели себя керчане, как пришли немцы. А трёхдневные бои в городе, а потом десант и сильный мороз. Такой, что стал пролив.
В общем, ничего весёлого.
Твоя сеструля Нелля!»
ЗАПИСИ НА ПАМЯТЬ
А НА НАС НАПАЛИ ФАШИСТЫ
В понедельник, 23 июня, утром, когда только взошло солнце и постепенно начинает припекать, я отвела Славика в ясли, а сама пошла в детсад. Я была уже самостоятельная – осенью в школу.
О начале войны мы не знали. Нам, детям, об этом не говорили ни дома, ни в детсаду. Только заметно было появление на улицах военных, люди озабоченно суетились. По дороге домой из детского сада, меня встретила ровесница, соседка по дому, и, словно хвастая, произнесла:
– Ага, Нелька, а на нас напали фашисты.
Я недоумённо глянула на подружку, ничего не понимая, и подумала: «Что это она ещё придумала? Не игра ли такая?»
Последующие дни только и говорили о войне дома, во дворе и в детсаду. Воспитательница старшей группы учила нас:
– Ребята, будьте внимательны. С посторонними людьми не разговаривайте и ничего не объясняйте. О подозрительных сообщайте в милицию.
В то время по городу пополз слух, будто немцы сбросили с самолётов парашютистов-диверсантов. И началась словно эпидемия по ловле шпионов. Старшие мальчики подняли такую бучу, что милиции пришлось охолаживать их патриотизм. Мы, малыши, тоже шныряли по высоким зарослям кукурузы в поисках шпионов. Не соображая того, что настоящий враг просто уничтожит нас. Но вскоре «эпидемия» прошла. Нас стали занимать другие военные заботы.
Инструктора обучали жителей тушить зажигательные бомбы. Мы тут как тут. Мы с упоением помогали обмазывать чердаки жидкой глиной, собирали бутылки под зажигательную смесь, оклеивали окна бумажными полосками крест-накрест. В детском саду разучивали боевые песни:
«Мы танки ведём в лесу и в поле чистом,
Дорогой скалистой, сквозь реки и снега…»
Взрослые рыли щели-бомбоубежища – зигзагообразные траншеи, похожие на окопы, только шире, и накрывали брёвнами, досками, кусками железа и вообще всем, что было под руками.
Дом наш постепенно пустел. Соседи уезжали в эвакуацию. Осталось несколько семей. Им оставляли ключи от квартир.
Мама работала на заводе формовщицей. С началом войны цех перешёл к отливке гранат-лимонок.
Папа был студентом, и в июне, перед началом войны, приехал на каникулы, и облегчённо вздохнув, сказал:
– Ну, вот, ещё один удар, и конец учёбе.
Но удара не вышло – началась война. В июле призвали в армию. Когда он вернулся из военкомата, угрюмый, с осунувшимся лицом, мы насторожённо смотрели на него. Наш квартирант, военный лётчик, пытливо глянул на растерянное лицо папы и спросил:
– Как дела, Иван Митрофанович?
– Дела, как сажа бела, – он вздохнул и добавил. – Везёт, как утопленнику! Забирают в артиллерию.
Я не поняла смысла, но по тону ответа сообразила, что произошло что-то печальное. Мама была на работе, а когда пришла домой, выяснилось, что папа уходит на фронт.
Утром провожали его. Помню, на остановке «Фабрика-кухня» папа вошёл в заполненный мужчинами вагон трамвая. Он помахал нам рукой, мы ответили. Вагоны дёрнулись и покатили дальше. Я заметила, что папа стоит неподалёку от окна с котомкой на спине. Он запомнился мне таким надолго.
В школу пошли первого октября, занятия почему-то перенесли. Мы, первоклашки, шли сами. Никто нас не провожал – не было и цветов. Учились недолго, в конце октября начались сильные бомбёжки и школы закрыли. Первые бомбы попали в порт и боеприпасы в нём рвались неделю. Так громыхало, что почти все стёкла полопались в окнах.
От воздушных налётов большей частью прятались на первом этаже под лестницей. Были случаи, когда дом вдребезги, а лестница стоит, как крепость. Постепенно народ привыкал к бомбёжкам и обстрелам, хотя эта привычка противоестественная.
ОККУПАЦИЯ
Немцы пришли в середине ноября, после уличных боёв. Грохотало, ухало, и выли мины несколько дней.
Наша семья и соседи прятались под лестницей. Стоял сильный мороз. Было так холодно, что казалось, будто весь мир промёрз насквозь. Кутались, у коего во что было, но мороз пробирал до костей.
На дворе тишина, словно и не было стрельбы, от которой дети чуть ли не глохли. В тот момент, когда мы собрались покинуть наше убежище и возвратиться в квартиру, послышалась чужая речь. У меня что-то оборвалось внутри и поползло холодной льдинкой в живот. «Фрицы!» – мелькнула мысль. Из всех сказанных слов разобрала только одно: «Цурюк», потом узнала, что оно означает «Назад». Кому они говорили, было непонятно. Приоткрыв дверь, разглядела солдат в зелёной, жабьего цвета, форме. Неподалёку стоял обоз крытых брезентом фур. Солдаты выпрягали из подвод громадных лошадей с толстыми ногами и широкими, как взлётная площадка, спинами. Вот так впервые увидела оккупантов и их толстозадых битюгов.
Наступила холодная и голодная пора. Мёрзли не только мы, но и оккупанты. Они обвязывали головы женскими платками, чтобы не поморозить уши. Со стороны они были похожи на огородные пугала, а женщины зло называли их «анчутками».
С едой вообще навалился крах. Запасов не было. Магазины закрыты, видимо надолго. Деньги потеряли цену. Городские женщины ходили на совхозные поля и собирали брошенную мёрзлую картошку. Ходила и мама. Приносила добычу домой и бросала её в холодную воду, когда картошка отходила, её мололи на мясорубке и пекли оладьи. Ничего хорошего из этого не получалось, но есть нужно было. Вначале мы со Славиком крутили носом, а мама сказала:
– Если жить хотите – ешьте!
Однажды ей повезло. Она набрала порядочный клунок и вдруг слышит мужской голос:
– Тётя, поднести картошку?
Не поднимая головы, мама ухватилась обеими руками за своё «добро» и пробормотала:
– Нет, нет. Я сама.
Подняв голову, она увидела мужчину в потрёпанной гражданской одежде, лицо давно не бритое и обрюзглое, а по щекам текут слёзы. Мама удивлённо глядела на него и молчала.
– Александра! – вдруг слышит родной голос. – Родного мужа…
– Ва-а-а-ня-я… – произнесла она и села на мёрзлую землю.
Потом долго шли домой. Папа на пухлых ногах, обмотанных тряпьём, едва передвигался. Мама, не бросая ношу, поддерживала его. Дома, завидев грязного незнакомого дядьку, мы подняли писк. Мама успокаивала нас и бормотала:
– Тише вы. Это ваш батька. Его надо спрятать.
Мы умолкли, ничего не понимая. Почему этого дядьку мама называет нашим папой? И даже после того, когда она обмыла его и переодела, мы папу не узнавали. Обрюзглое лицо его вводило нас в заблуждение.
– Что с тобой случилось? – спросила мама. – Что за вид?
– В плен попал. Под Николаевом мою пушку разнесло вдребезги, а меня контузило и засыпало землёй. Сколько был в этой могиле, не знаю. Очнулся ночью от яркого луча фонарика, направленного в глаза. Это были немцы. Пинками ног подняли меня и погнали в лагерь. Так попал в плен.
– А потом? Как ушёл?
– Потом? Потом были голод и холод, унижение и смерть. Люди умирали, как мухи осенью. Никакого спасения. Думал, уже мне конец. Неожиданно нашлись люди, которые помогли бежать. Дали штаны и фуфайку, несколько варёных картошек, и показали, куда идти. Вот и всё.
– Как добирался домой?
– Окольными путями. Больше степью, полями, и тебя на одном из них встретил.
– Ты всё шутишь?
– Какие шутки! Когда на улицах лютуют фашисты.
– Да-а-а, – вздохнула мама. – Заставляют регистрироваться. Евреев постреляли. Мужчин забирают в лагеря.
– Не для того бежал, чтобы снова оказаться в лагере.
– А ты сиди дома.
– Жить как будем?
– Есть покупатель на уголь. Поменяю на муку – проживём.
– Ну, что ж, будь по-твоему, – согласился папа.
Постепенно мы стали привыкать к нему.
И вот однажды морозным днём паника: бегут немцы, полицаи, военнопленные. Звали и отца, но он отказался. Пошёл слух, будто наши десант высадили. И в самом деле, слышался отдалённый гул стрельбы.
Потом завыла, закрутила вьюга на неделю. Казалось, ревут и стонут на все голоса сотни диких зверей. Только после Нового, сорок второго года погода улеглась, оставив после себя снежные сугробы и завалы поперек улиц, словно баррикады.
Когда восстановилась погода, папа пошёл в военкомат. Его, как бывшего военнопленного, отправили в лагерь. Ничего не помогло. Оправдания в расчёт не брались.
Помог случай. Его увидели бойцы из части, где папа служил, и удивились:
– А мы, Иван, думали, что ты убит.
Его тут же забрали в своё подразделение. Воевал он до сорок третьего года. Погиб в Краснодарском крае.
ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ
И во время войны люди пели песни, танцевали, случались даже забавные истории. Жизнь есть жизнь. Пока жив человек, ему ничто не чуждо. Расскажу несколько эпизодов, для разнообразия.
В квартире наших соседей, которые эвакуировались, поселились две девушки. К ним ходили военные парни. Они договорились, когда заходит патруль с проверкой документов, солдаты должны лежать отдельно от девушек.
Однажды они перепутали кровати, и получилось, что поменяли девушек. Так они попали на гауптвахту. Через трое суток пришли в гости и смеялись над собой до колик…
А вот ещё. Детвора придумала игру, которая пугала население. Люди боялись, а нам смешно.
Делалось это так. Откручивался гофрированный шланг от противогаза, один конец брался в рот, а другой раскручивался, и когда «укаешь», получается вой, похожий на сирену воздушной тревоги. Народ мечется, оглядывая небо, а другие прячутся.
Эту шалость заметила мама и набросилась на нас:
– С ума спятили! У людей без вас хватает страха. Прекратите! Все!
Как бабка пошептала. Больше мы не занимались этим. Поняли, что делали зло, невольно, но зло.
А ещё со мной случилась неприятная штука, но смешная. С середины апреля фашисты усилили бомбардировки города и нашего посёлка Колонка (посёлок завода имени Войкова). Больница, которая граничила с нашими огородами, пользовалась нашими убежищами. Ходячие раненые прятались в них.
В тот день бомбёжка продолжалась долго. Одни самолёты улетали, а другие тут как тут, и сыплют бомбы, как из рога изобилия. Народу в щели, словно селёдки в бочке, битком набито, а осколки горохом стучат по железу.
И нужно было такому случиться. Мне в этот момент приспичило по-маленькому. Я вертелась и стонала, а бомбы рвутся и стучат осколками по крыше. Не было моего терпежу. Мама возьми и посоветуй:
– Ты, доченька, присядь здесь.
Я и присела. Вдруг слышу мужской голос:
– А почему в моём ботинке тепло? – а сам смеётся.
Меня словно огнём опалило. Лицо горело, уши вообще пылали. Я уткнулась в материнский подол и заплакала, уже и бомбёжка закончилась, люди порасходились, а меня не вытащишь из щели.
– Ты ещё маленькая, – стала уговаривать мама. – Тебе простительно.
Я же считала по-другому: никакая я не маленькая. Мне уже девять лет, и почти год на войне.
Бомбёжки усиливались с каждым днём. Однажды бомбы упали на фабрику-кухню. Одна, видно, попала в кладовку, где хранились ленты для кассовых аппаратов. Они разлетелись по округе и повисли на деревьях, словно ёлочные украшения на Новый год. Мы снимали ленты и играли с ними «в столовую». На них написано «борщ», «рагу», «суп» и прочие блюда.
Так вот. Иду я, значит, за лентами, разглядываю всё по сторонам. Солнечное апрельское утро не предвещало ничего плохого. Неподалёку шёл молодой боец. Я сразу определила – не русский.
Вдруг гул самолётных моторов. Я задрала голову в небо и жду, откуда они появятся. Боец заметался в поисках укрытия и ничего умного не придумал, как сунуть голову в окно полуразрушенного ларька и замер. Он напоминал страуса, у которого голова в песке, а всё остальное наружи. Я смеялась, закатываясь. И тут немец сбил наш самолёт. Я вздрогнула, наблюдая, как пикировал горящий «ястребок». Утирая слёзы, помчалась домой. Боец так и остался стоять в интересной позе. Сколько он стоял, не знаю. Мне в ту минуту было не до смеха.
Ещё стала свидетелем такого случая. Люди переносят бомбёжки по-разному: одни делают вид, будто бы не боятся, есть такие, которые здраво оценивают обстановку, а есть те, что дрожат от страха без повода на то.
В нашем доме в брошенных квартирах жили военные, офицеры. Ребята молодые, с юмором и с отчаянной храбростью. Но среди них был один, тоже молодой, очень трусливый. Над ним всегда подшучивали.
Однажды, только он уселся в надворном туалете, как началась бомбёжка. Его товарищи научили мальчишек накинуть наружный крючок. Что здесь началось! Рвутся бомбы, грохочут зенитные орудия, а он, бедолага, барабанит в дверь и кричит с мольбой в голосе. Открыла его мама. Он выскочил, как пуля, придерживая руками штаны, и подался в укрытие, дрожа всем телом.
– Как вы посмели? – набросилась она на мальчишек.
Все бросились врассыпную. Больше всех досталось мне, хотя я стояла в стороне. Мама знала, что я способна на шалости.
Вскоре стало не до шалостей. Бомбили так, что не знали, где укрыться.
СКАЛА
Скалой керчане называют шахты каменоломни. В них режут камень с незапамятных времён. В окрестностях города их несколько.
Во время бомбёжек некоторые горожане подались под землю, спасаться от бомб. Местные жители Аджимушкая перебрались в скалу со всем скарбом и скотом.
Бомбёжки усиливаются. Самолёты большими стаями налетают и сыплют бомбы на сушу и на море. Иной раз стоит туман над городом из порохового дыма и пыли. Не успеет осесть, как рвётся новая порция тонных бомб.
Однажды наблюдали, как потопили корабль с ранеными. Он сразу пошёл на дно от прямого попадания бомбы, словно брошенный в воду топор. На поверхности плавали всякие обломки, костыли, бескозырки в белых чехлах, похожие на кувшинки.
Стало невыносимо страшно за наши жизни. Маме посоветовали уйти в каменоломни. В это время засобирались соседки, и зовут:
– Шура, пойдём с нами? В скале надёжней!
Мама собрала нас, под мышку подушки и ридикюль с хлебными карточками – продуктов никаких. На что надеялась родительница – не знаю.
Выручил нас военный госпиталь, который находился в подземелье. После того, как разбомбили главный госпиталь в гостинице «Керчь», его перевели в скалу.
Нам, семье фронтовика, выдавали хлеб и макаронные изделия в виде штампованных звёздочек, букв и цифр. Мы радовались их разнообразию. Я из них складывала слова, училась считать. А мама мрачнела. Мы не могли понять, почему? Бомбёжки не страшны, продукты дают, вода у входа в скалу в колодце.
Всё было хорошо, пока не пришли в посёлок фашисты. Трудно стало с едой, а за воду и говорить не приходится. Редко кто возвращался живой от колодца, а больше оставались лежать убитыми.
Некоторые женщины с детьми стали выходить на поверхность. Немцы их не трогали. Мама и говорит:
– Попробуем и мы, дети. А то объедаем бойцов.
У входа нас собралось несколько семей, и не решались выходить туда, где жихают и жужжат, словно шмели, разрывные пули. Часовой заметил нашу нерешительность и подбодрил:
– Идите, фриц не тронет.
Мама вздохнула и сказала:
– Была не была. Пошли, что Бог даст!
Мы вышли на поверхность. С нами ещё несколько женщин с детьми. Я и Славик с двух сторон держались за материнскую юбку, переступая через трупы бойцов. Мама закрывала рукой глаза братика, чтобы он не видел ужасов войны. Он оторвал её ладонь и спросил:
– Почему у дяди синие перчатки на руках?
Мы молчали. Как объяснить пятилетнему малышу, что это вовсе не перчатки…
Мы шли по шоссе, как по нейтральной полосе: справа немцы, а наши слева. Пули шмыгают через дорогу в обе стороны, но нас те и те солдаты пропускали.
Я увидела под кустом сирени убитого бойца. Он сжимал рукой винтовку, приклад её упирался в землю. Создавалось впечатление, будто он собирается приподняться. Над его головой буйно цветёт куст, словно природа пробует таким способом прикрыть людские грехи. А пули свистят.
– О, Господи, куда нам идти? – вздохнула мама.
– Женщины, – прокричал слева боец. – Идите к ним! К ним идите!
Мы и пошли к немцам. На воротах пустующего дома встретил нас гитлеровец и показал на дом. Наша компания вошла в него. Комнаты пустые, стёкла выбиты и рассыпались осколками по земляному полу. Благо, была середина мая, и стояла тёплая погода. Мы столпились посредине комнаты, не зная, что делать.
Вошёл какой-то немецкий чин и приказал лечь на пол. Мы подумали, что нас хотят таким образом расстрелять. Мы выполнили приказ. В ту минуту нам было не страшно умирать. Оказалось, наоборот: чтобы не убило кого шальной пулей, которые и в самом деле влетали в окна и впивались в противоположную стену, словно гвоздь, забитый с маху. Это мы потом осознали.
Вскоре бой отдалился в сторону завода, но приглушённые выстрелы всё ещё слышны. Как только стрельба стала утихать, ввалилась группа солдат с обезглавленными курами. Солдаты заставили женщин обрабатывать птицу.
Ни воды, ни еды у нас не было. Маленькие дети просили есть. Мама тайком клала им в рот по маленькому, чуть больше горошины, яичку, вынутому из тушек.
Мы стали отходить от апатии. Но на её месте появился страх за наши жизни. Особенно он усилился, когда вошёл тот же офицер и предложил детям по кусочку граната. Мы отшатнулись. До нас дошли слухи, что немцы травят детей. Взяли после того, когда он съел кусочек.
Перестрелка уходила всё дальше и дальше. Нас отпустили. Домой, на Колонку, не разрешили идти. Мы направились в город.
После отступления в поле остались брошенные автомашины, подводы, пушки, а лошади бродили табунами. Мама разорвала на ленты полотенце, кое-как соорудила что-то наподобие уздечки, поймала смирную лошадь и усадила на неё малышей. С обеих сторон женщины поддерживали детей, а мама вела кобылу.
БУДНИ В ОККУПАЦИИ
Некоторое время мы жили в городе у знакомых. Когда немцы разрешили – вернулись в свою квартиру.
Дома застали хаос и беспорядок. По комнатам разбросано грязное солдатское нижнее бельё. В центре комнаты, на полу, стоит корыто с грязной мыльной водой. Ящики комода выдвинуты, отцовское нижнее взято. Зато в кладовке на полках ровными рядами сложены брикеты супов и каш, а на верхней полке банки консервов. Мама вздохнула:
– Бойцы переоделись в чистое, по русскому обычаю, и пошли в бой, на смерть, а нам оставили продукты и завещали жить.
Я не всё из сказанного поняла, но видела – мама не осуждает бойцов за то, что они забрали отцовское бельё.
Время шло. Кормить нас становилось всё трудней. Запасы, оставленные военными, кончались. И опять нашёлся выход. Недаром говорят: «Бог даст день, даст и пищу…».
Во время отступления наши бросили много обмундирования и белья в паках. Женщины растащили это богатство по домам. Не упустила момента и наша родительница. Всё это пригодилось в скором будущем. Она стала шить из этого материала детские кофточки и штанишки. Красили самодельной краской. Жёлтую получали из лекарства, а чёрную – из свекольного кваса. В него бросали гвозди, осколки от бомб и снарядов. Всё это окислялось, и получался почти чёрный цвет.
До чего только не доводит нищета и голод. В керченском порту лежали бурты горелой пшеницы ещё с сорок первого года. Не пропустила этот случай и наша мама. Она варила зерно, потом крутила на мясорубке, и получалось тесто. Изделия из него пахли дымом, но ничего – есть можно было.
Наша мама была мастер на все руки. Заболели мы с братом поносом – лечила. Позже подхватили чесотку – опять лечила вонючей мазью и ворчала:
– Напасть какая-то. То одно, то другое…
Однажды нам повезло. Один мужчина за пошив костюма предложил лошадь. Мама и говорит:
– Забей её, а мы заберём мясо.
Так и поступили. Мужчина согласился, а мы вечером, я и мама, перевезли закутанное в старое одеяло мясо. Его тут же засолили в бочке. Домой взяли только печень. В тот вечер мы пировали, – правда, без хлеба. В дальнейшем мясо отмачивали и варили.
Иногда у нас останавливались обозы. Женщины стирали солдатам бельё, мама тоже. Возчики рассчитывались овсом, бывало, и хлебом в особой обёртке. Во внутренней её стороне дата выпечки «1939 г.».
– Ничего себе? – удивилась мама. – Готовились, гады, к войне.
ОСЕНЬ СОРОК ТРЕТЬЕГО
Это случилось пятого октября сорок третьего. Приказ гитлеровцев свалился на керчан, как снег на голову среди лета. В нём говорилось, что всё население города в течение трёх дней должно покинуть его пределы. Что здесь началось: народ в панике, полицаи оклеивают стены белыми с чёрным листами бумаги, бегают по дворам и кричат:
– Всем уходить! Брать ценные вещи и на пустырь.
Рядом с нами жила татарка. Она с мольбой в глазах спросила:
– Козяин, а, козяин, корову можно бирать?
– Бери, если донесёшь, – съехидничал полицай.
Мы подняли смех, не понимая, как это можно нести корову? Мама глянула на нас сурово и цыкнула:
– Помолчите! Не до смеха сейчас!
Она выглядела очень расстроенной и не хотела уходить. Как она ни упиралась, а пришлось покинуть квартиру.
На пустыре образовались кучки людей: соседи жались друг к другу, знакомые, родственники.
Взрослые о чём-то рассуждали, каждый что-то доказывал. Детвора сидела на узлах и сторожила свои вещи. Вдруг мама объявила:
– Кое-что забыла! – и тут же ушла.
Дело в том, как я позже узнала, в посёлке Багерово у нас были родственники, а они связаны с подпольем. Оказалось, что у нас в квартире хранился ящик с гранатами. За ним должны были приехать. Вот и нервничала она, не зная, как скрыть свою озабоченность.
Вскоре она вернулась с верёвкой и прищепками, на которое вешала бельё, и чугунным утюгом. У неё спросили:
– А утюг зачем?
– На всякий случай! – и ляпнула первое, что пришло на ум. – Может, придётся кого треснуть по башке.
На неё посмотрели с удивлением, но ничего не сказали. Мама хмыкнула и тоже промолчала.
Спустя некоторое время, подъехал знакомый дядька на двуколке, в полицейской форме и с белой повязкой на левой руке. Такая повязка, словно пропуск, давала право беспрепятственно проезжать посты. Кроме того, у него имелась справка, что мы его семья.
Двуколка была покрыта нашей периной. Нас посадили на неё и кое-как приткнули узлы. До Багерово добрались окольными путями.
Жили мы под скирдой сена в яме. Туда же спрятали и наше добро. Среди нашего скарба оказался ящик с гранатами, – вот тогда я и поняла, почему нервничала мама, и зачем ходила домой. Сделала вид, будто ничего не сообразила.
На улицу нас не пускали. По шоссе продолжают идти изгнанники под конвоем жандармов: некоторые с заплечными оклунками, другие катят тяжелые двухколесные тачки с детьми.
Вскоре стала доноситься с Кубани канонада, словно раскаты грома при грозе, а ночами ещё и огненные отблески видны. Это вселяло надежду на скорое освобождение.
Сколько мы прожили у родственников, не помню, но всё это время по дороге шли керчане. Как только иссякли изгнанники, стали выселять и из деревни. Взрослые решили уходить в Багеровские каменоломни.
В скалу нас завезли ночью, полусонных. Мы были в таком состоянии, что не соображали, куда едем и зачем?
Оказалось, там уже существовал партизанский отряд из двухсотпятидесяти человек. Продукты и вода имелись.
Всё складывалось будто в нашу пользу, если бы не событие, которое всё изменило.
Прошло несколько дней, как мы в скале. Стали обживаться и устраивать свой быт. Но вдруг к нам повалил народ: женщины, дети, старики, были и мужчины. Обстановка осложнилась. После переписи нас оказалось восемьсот человек.
Немцы, обнаружив бегство эвакуированных, направились в скалу. Партизаны встретили их пулемётным огнём. С той поры нас отрезали от внешнего мира. Каменоломни опутали колючей проволокой в несколько рядов, словно паутиной.
Стали рыть колодец. В это время взяли в плен немца. При допросах ничего не говорил, а только выкрикивал: «Хайль Гитлер!». Его расстреляли.
Колодец вырыли и добрались до воды. Напились тогда от пуза. Но радовались недолго. Неукреплённые стены обрушились и наглухо закупорили доступ к воде.
Наступила трудная пора. Стали собирать её с капижей. Это те места, где капает с потолка. Капли монотонно стучат о консервные банки. Каждую банку охраняли, а вода шла на общие нужды. Мы, детвора, высасывали её из камня. Губы распухли до того, что стало трудно говорить.
Жизнь осложнялась. Даже мы, дети, понимали это. Не стало света, всё окунулось словно в сажу, но постепенно глаза привыкали к темноте. Кончались продукты. Воду кое-как добывали.
Мама работала на «кухне» – делила пайки. Она ничего лишнего не брала для нас, даже тогда, когда заболел Славик. За это товарищи уважали её.
Когда все продукты закончились, партизанский штаб принял решение: всем гражданским выходить на поверхность… Ещё предупредили, чтобы говорили: прятались от бомбёжек и больше ничего не знаете…
ЛАГЕРЯ И ТЮРЬМЫ
Вышли все. Наша семья пробыла в каменоломне три с половиной месяца. Было первое февраля. Погода крымская: днём слякотная, а ночью заморозки. В скале остался штаб. Остальные понуро шли по коридору из солдат в карьер, куда направили нас.
В карьере Багеровских каменоломен находились десять дней без еды и воды. О крыше над головой уже не говорю.
Шестилетний Славик умирал с голоду. Он жалобно стонал и лука или огурчика просил. У меня, малолетней, сердце сжималось от жалости. Представляю, что творилось с мамой, но она не подавала виду и подбадривала нас:
– Ничего, дети, потерпите. Скоро у нас будет и еда, и вода…
На десятый день пришёл конвой, и погнали нас в лагерь. Мучимые жаждой люди пили из луж. Нам мама не разрешила. Это напомнило мне сказку «Про Алёнушку и братца Иванушку». Я смотрела на людей расширенными глазами, и ждала, что вот-вот они во что-то превратятся…
В лагере разделили мужчин отдельно, девушек тоже в другую группу, а женщин с детьми в третью. Потом прошли слухи, будто многих расстреляли, как партизан. Нас отправили поездом на станцию Семь Колодезей.
Когда гнели колонну от станции, местные женщины отбирали детей. Забрали и Славика. Мама тогда облегчённо вздохнула:
– Слава Богу! Теперь спасут сынишку.
Что можно на это сказать? Только надеяться на чудо. Братик совсем плохой, едва дышал. Я вздохнула и смахнула слезу, набежавшую от жалости. В свои одиннадцать лет я рассуждала, как взрослая.
Нас загнали за колючую проволоку, словно скот, а потом по камерам. Говорили, что с едой, будто, дают слабительное. Так оно было или нет, но нас понесло. «Старожилы» пояснили:
– Фашисты делают специально, чтобы не бежали из лагеря.
– Ну и методы, – проговорила мама. – Одно слово – фашисты.
В Семи Колодезях продолжали расстреливать. Каким-то образом выявляли партизан и их семьи. Их вызывали пофамильно и увозили.
Когда местным женщинам стало известно, что нас должны перебросить в другой лагерь, они подошли к проволоке. Одна из них кричала:
– Мама и сестричка Нелля! Если будете живы, найдите Славика. Второй ряд, восемнадцатая хата…
– Спасибо, – отозвалась мама – что спасли сына! Теперь верните.
На другой день она подпустила Славика под проволоку. Мы его ждали. Он был рад, что мы опять вместе.
Везли нас в другой лагерь румыны на подводах. У ворот остановились. Немцы, увидев «жёлтых» людей, всполошились:
– Кто такие? Почему жёлтые?
Наша кожа в подземелье от дыма и копоти обрела почти коричневый цвет, как пальцы у заядлых курильщиков.
– Какие-то тифозные, – ответили румыны.
Ворота с треском захлопнулись, несколько охранников бросилось выяснять, что к чему.
Пока они выясняли, многие узники, у кого были родственники или знакомые, разбежались. Мы остались, а мама сказала:
– Что людям, то и нам.
В предыдущих лагерях одежду не отбирали, а здесь… Нас заедали вши. Слышим команду:
– Всем следовать в баню!
Вошли в помещение, похожее на предбанник, стали раздеваться и вешать на железные вешалки вещи для прожарки. Свои и Славика не успела повесить. В «баню» ворвались немцы. Женщины подняли писк и голые выскакивали на мартовский снег. Выбежала и я с узелком. Оделась сама, и брата одела. Среди криков и проклятий, мама нашла нас. Она на голое тело накинула пальто.
Нас загнали в бывшую конюшню с дырявой крышей. Одежду отдали только утром. Так и жили на старой соломе, смешанной с конским навозом. Маму и других взрослых гоняли рыть траншеи. Все знали, что это могилы для будущих расстрелянных. Так жили под страхом.
Во второй половине марта нас погрузили в товарные вагоны, наглухо захлопнули двери, а на окнах колючая проволока. Открыли в Симферополе и пешком отправили в тюрьму. Она рядом со станцией.
При входе в камеру, выдали по толстому солдатскому одеялу. Мама тут же оторвала от каждого по куску и пошила нам шаровары. Женщины за головы схватились:
– Шура, как ты могла? Нас же постреляют!
– Не успеют, – ответила спокойно мама, – наши освободят. А если опоздают – всё равно фрицы убьют…
На прогулку ходили, прикрывая обновку пальтишками. На ногах у меня были немецкие кованые сапоги, тяжёлые, как гири привязанные. Мама выменяла их у полицая за отцовские кожаные перчатки.
В начале апреля взрослых построили в длинном коридоре и объявили, что расстрел заменяется отправкой в Германию. Начался крик, плач. Один заключённый отрезвил их:
– Радуйтесь, – сказал он. – В тюрьме смерть. Она заминирована.
Наступила тишина. Женщины переглянулись и принялись собирать свои пожитки.
Так нас отправили в Севастополь. У стенки какой-то бухты стоял большой пароход, вот на него и загнали нас. Мы, дети, свободно ходили по палубе. С неё видно было на горе большое круглое полуразрушенное здание с железными рёбрами на крыше. Потом мне сказали, что это Панорама. Я понятия не имела, что это такое.
Двое суток простояли в бухте на якоре. Кормить не кормили, запасов у нас никаких.
Наконец, протяжный гудок, и пароход медленно выходит в открытое море.
ДОРОГА В НЕВОЛЮ
Пароход пришёл в Констанцу в полдень. Было начало апреля. Погода пасмурная, но тёплая и без дождя. Выгрузили нас в порту. Неподалёку стоял эшелон из товарных вагонов. Мама вздохнула:
– Этот экспресс, видно, для нас?..
ей не дали договорить. Подошедшая нарядно одетая женщина из местных сказала на русском языке:
– Нет ли у вас чего-нибудь купить?
Мама удивлённо глянула на неё, пожала плечами и буркнула:
– Ценностей не имеем
– Вы неправильно поняли, – поспешила поправиться женщина. – Я хочу иметь что-нибудь с Родины.
Мама глянула на неё изучающее, вздохнула и стащила с меня пальто. В нём, под подкладкой, был спрятан отрез шёлка. Она распорола подкладку, достала белый с сине-голубыми цветами шёлк, отрезала косынку и дала женщине.
– Спасибо! – проговорила женщина и заплатила маме леями.
– Бедная, – вздохнула родительница.
– Почему бедная? – не поняла я. – Расфуфырена, и денег куча.
– Родину потеряла. Вот и бедная.
Я не поняла смысла этого разговора, но расспросить не дала команда «Грузиться в вагоны!».
Мужчин везли в закрытых вагонах. Нас, то есть женщин с детьми, не закрывали. На станциях выходили, покупали еду, у кого были деньги, или выпрашивали. Мужчин не выпускали, только на остановках выносили мёртвых из вагонов.
Вначале нас должны были везти на Бухарест, а потом изменили направление. Говорили, будто какую-то узловую станцию разбомбили наши самолёты.
Когда повернули в Карпаты, мама передала в вагон к мужчинам ножницы. Они продолбили пол и бежали на ходу. Мы видели их, когда поезд пошёл змейкой. К лесу бежало человек пять. Охранники постреляли для порядка, но погоню не устраивали.
По дороге я и ещё человек двадцать отстали от эшелона. Кончалась территория Румынии, а у нас оставались ещё леи, и их нужно было истратить. Пока торговались, поезд ушёл. То сутками стоит, а то вдруг… Мы к начальнику станции. Он посадил нас в поезд. В вагоне были рабочие в чёрной робе и с фонарями на кепках. Когда они узнали, кто мы, набросали мне в подол кусков хлеба. На следующей станции догнали своих.
Женщины рассказали, что мама хотела броситься искать меня, но её удержали:
Я – Нелю не найдёшь и Славика потеряешь!
Она забилась в угол и плакала, пока я не влезла в вагон.
Поезд блуждал от станции к станции месяц. И только первого мая прибыли на станцию Краков.
– Приехали! Выгружайся! – последовала команда.
Вели нас по улицам города под охраной немецких солдат. Я, задрав голову, рассматривала красивые здания. Не дали как следует разглядеть собравшиеся на тротуарах поляки: узнав, что мы русские, плевали в нашу сторону и оскорбляли.
Колонна узников молча прошла мимо. Вскоре вошли в ворота лагеря. Так начинался новый этап нашей жизни.
В НЕВОЛЕ
По прибытии в лагерь нас направили в баню. Одежду сдали на прожарку. Это избавит народ от вшей. Их целые табуны шныряют по одежде, и нет никакого спасения. Говорят, вши заводятся от грязи, недоедания и неустроенного быта.
Обслуживали баню русские мужчины в старой немецкой форме. Это были не солдаты, а робу им выдали как спецодежду.
Нагих женщин и детей перегнали в другую комнату с цементными ёмкостями, похожими на чаны для засолки хамсы. На их дне имелась решётчатая металлическая дверца. Открывалась она педалью, которая находилась в полу. Каждая из узниц подходила к служителю, и её стригли наголо. Женщины стеснялись своей наготы, но переносили это сносно, а вот от стрижки закатывали истерики.
Громче всех кричали две женщины – мать и дочь. У молодой были чёрные как смоль косы до ягодиц. Они плакали и просили не трогать волос, но ничего не помогло. Оболванили «под Котовского», как у нас принято говорить.
В бане помылись, избавились от вшей, нас сфотографировали и каждому присвоили номер. Маме дали номер 1287.
Краковский лагерь оказался пересыльным. Он имел несколько секций: карантинная, рабочая, для военнопленных, изолятор и общая, с которой забирают «покупатели» рабочих для хозяйств. Каждая секция опутана колючей проволокой. Общение между ними строго запрещалось. Но всё видно, что делается в соседней. Однажды мы наблюдали такую картину. Был какой-то религиозный праздник. Из барака напротив вывалила пьяная компания, а одна баба с Железным Крестом на груди вопила во всё горло:
«А Семёновна, баба хитрая,
Любила Сталина,
А теперь Гитлера…»
После этого её мы больше не видели. Говорили, будто Крест она получила за выдачу партизан. Недолго носила предательскую награду. Прошёл слух, будто «хитрую» бабу задушили. Кто это сделал, никто не искал. Как у нас говорят в таких случаях: собаке – собачья честь. От такой поговорки становится обидно за собаку – верного и преданного друга человека.
Вскоре нас перебросили в другой лагерь. Находился он в городе Штеттине. Это был невольничий рынок, где «покупали» людей.
Нас «купил» нестарый, чернявый немец – герр Шнайдер, взял он три семьи. Мы со своими пожитками пошли за ним. Потом ехали на трамвае. Сошли у многоэтажного дома. Как мы поняли, это было что-то вроде поликлиники или больницы. Мы прошли рентген – больных не оказалось. После ехали на электричке. В вагоне кроме нас и Шнайдера никого не было. На одной из остановок вышли.
Стояла тёплая майская погода. Мы наслаждались теплом после холодной и трудной зимы, и радовались, что ходим без конвоя.
Поселили нас в помещение при конюшне. Устроили нам карантин. Только через неделю перевели в общую казарму. В ней жили двадцать три человека разных национальностей. Нары в два этажа, в углу печка-голландка, пол кирпичный, три стены глухие, а четвёртая с окнами и входными дверями; на потолке одна электролампочка; длинный, почти через всю комнату, стол. Другую часть дома занимал герр Шнайдер с семьёй.
День начинался с распределения на работу. Оказалось, что кроме гражданских, есть ещё и военнопленные, а Шнайдер не хозяин, а управляющий, но он радел за всё, словно за своё собственное.
Маму посылал на погрузку снопов. За день так выматывалась, что буквально валилась с ног. Нелегко было и на уборке картофеля, а осенью, когда пошла сахарная свекла, вообще каторга.
Стояли промозглые, с холодным дождём, погоды. У рабочих лопались руки до кости от воды и холода. Мама обматывала руки тряпьём и работала, чтобы не получать побои от Шнайдера.
У каждого рабочего имелись двухрожковые вилы с опорной планкой и секач. Рожки вонзали в корнеплод и резким рывком выдёргивали. Свекла укладывалась ботвой в одну сторону. На обратном пути листья отсекались. Нормы большие, и кто не выполнял их, избивался Шнайдером.
Кормили нас варёной картошкой. Однажды привезли на ферму солёные селёдочные головки для свиней. Кто в тот день работал на свиноферме, набрали их и принесли в барак. В тот вечер словно наступил праздник, и мы пировали. Отходов от головок не осталось.
Наступали заморозки. Уходил сорок четвёртый год. Стали укрывать в подвале картошку. Шнайдер послал маму. Она не поняла, и вместо того, чтобы утеплять окна, вытащила утеплители. Шнайдер рассвирепел и орал, но не бил. Он боялся военнопленных.
Фронт приближался. Уже в феврале сорок пятого стали появляться беженцы из восточных областей. В то самое время фрау Шнайдер, развлекая дочку Гизелу, натравила на меня собак. Они набросились, как дикие злобные звери. Одна повалила, а другая стала рвать меня. Если бы не подоспел военнопленный, разорвали бы в клочья.
Когда немцы стали уходить, бросая ферму, мама не пошла провожать их.
Беглецам нужно было переправиться через Одер навстречу американцам. Семья Шнайдеров утонула в реке. Это случилось на глазах рабочих. Я подумала тогда: «Правду мама сказала, что наши слёзы отольются им…»
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Ночью угнали пленных. Брошенный скот остался на наших руках. В селении пусто, словно мор прошёл. Пусто и страшно от неизвестности. Даже как-то странно: подневольные работники стали полными хозяевами в посёлке. Заходили в дома, брали еду и одежду. Переоделись, стали на людей похожи, волосы у нас отросли. Разбоя не допускали. Опасались возвращения хозяев.
Появились разрозненные группы немецких солдат. Неопрятные, с заросшими лицами, закатанными рукавами, автоматы на животе. Это нас напугало, мы покинули казарму и поселились в брошенных домах небольшими группами. Сидели в подвалах на картошке.
Сидели тихо, как мышки, боясь даже шевельнуться, насторожённо вслушиваясь в глухую тишину. Картофель пророс и выделял испарения. Женщины по очереди выходили наверх узнать обстановку и подышать. Когда возвращалась очередная разведчица, мама спрашивала, указывая подбородком на потолок:
– Как там?
– Баррикады строят из молотилок и комбайнов.
– Кто строит?
– Фрицы!
С нетерпением ждали освобождения. Я сидела в углу и думала: «Вот придут наши – всех немцев заколю вилкой…»От обид и боли мне почему-то хотелось колоть немцев не вилами и не ножом, а вилкой. Почему? Объяснить не могу.
Ночью послышались шаги над головой. Все насторожились. Открывается ляда и полячка кричит:
– Шура! Наши пришли!
– Какой чёрт, наши! Откуда? – отозвалась мама.
– Говорю – наши!
Мама, как была в одном ботинке, так и выбралась из подвала. Одна нога босая, а ботинок в руке.
Произошло это восьмого марта сорок пятого года в четыре утра. В доме стоял офицер и три подростка в военной форме. Их обнимали со слезами на глазах, гладили погоны, которых мы не только не видели, но и не подозревали об их существовании.
Это была разведка. Расспрашивали о немцах, но они ушли ещё с вечера и переправились на другой берег.
Так состоялось наше освобождение. Утром женщины ловили гусей, потрошили их, потом жарили и угощали солдат. Пели песни и даже танцевали. Так прошёл праздник – двойной праздник: Восьмого марта и освобождение. Это впервые за войну отметили Женский день.
На другой день первыми покинули опостылевший посёлок поляки. Они запрягли в подводы лошадей, побрали из домов имущество и отбыли.
Ушли и мы наутро. Ушли пешком в город, на сборный пункт. По дороге встретили у лесопосадки танкистов, которые ремонтировали танк. Танкист чем-то был разозлён и зло отогнал нас.
– Вы почему оказались в Германии?
Мама тоже не полезла в карман за словом и отпарировала:
– Лично меня Гитлер пригласил на именины!
Из башни вылез ещё один танкист и сказал:
– А если серьёзно? Люди шли в партизаны.
– Вот если бы мы не пошли в партизаны, возможно, не попали сюда.
– Откуда вы?
– Из Керчи! Из Багеровских скал.
– А правда, что фрицы травили газом партизан?
– Правда!
– А вы случайно не знаете Марию …? – он назвал фамилию.
– Знала. Боевая девушка. Она ушла в разведку и не вернулась.
– М-да-а! – только и ответил танкист.
Он был из Багерова, а Мария – сестра его.
На сборный пункт, в незнакомый город, пришли под вечер. Уже смеркалось, когда нас определили на ночлег в здание в несколько этажей. Наутро прошёл слух, будто приехали вербовщики и набирают рабочих в воинские части. Ещё шла война.
– Не поедем домой, – объявила мама. – Поработаю, война кончится – видно будет. Может, папу встретим?
Чтобы работать в воинской части, нужно пройти проверку. Маму несколько раз вызывали в СМЕРШ. Каждый раз задавали разные вопросы, следователи пытались запутать. Наконец определили в воинскую часть под названием «Хозяйство Дорохова». Поселили нас в отдельный коттедж. Солдаты сгоняли брошенных коров с раздутым выменем. Мама и ещё несколько женщин спасали животных, выдаивая на землю молоко с кровью. Таким образом, собрали семь тысяч голов.
В один из этих дней Славик сбежал на фронт. Было ему шесть лет. Когда привезли его назад, мама схватила верёвку и приговаривала:
– Я покажу тебе фронта!
В общем, покричала, но бить не била, а отбросила верёвку и заплакала.
Скот сортировали. Те коровы, которые не могли ходить, шли на мясо. Других гоняли, приучая ходить. У немцев скот круглый год стоит: зимой в стойле, а в тёплое время – на лужайках, огороженных плетнём.
Однажды через посёлок проходил польский обоз. К задку одной подводы привязана корова. Мама пристально смотрела на неё, а потом усмехнулась, отвязала корову и привязала быка. На рассвете обоз ушёл. Наши смеялись проделке несколько дней, а пожилой солдат усмехнулся и сказал:
– Представляю, какими глазами будет смотреть на быка поляк!
И опять смех. А война ещё продолжалась. Бои шли в Берлине. Фашисты, начиная войну, никогда не думали, что она так закончится.
ПОБЕДА
Ночью с восьмого на девятое мая в лесу неподалёку от посёлка, где стояла наша часть, поднялась неожиданно беспорядочная стрельба. Командир хозяйства послал солдат узнать, в чём дело. Вернулись они слегка навеселе и с улыбками до ушей. Командир, видимо, хотел наказать их за пьянку, когда они ошарашили его:
– Конец! Война кончилась!..
И тут началось: крики, стрельба и слёзы. Нашлась и выпивка, словно из-под земли. Пили все, кроме детей. Вино лилось ручьём, пели песни, танцевали, не забывали и коров доить. Думалось, веселью не будет конца, но…
С утра, десятого, восстановился порядок. Солдаты возили сено, а женщины доили коров. Вскоре приехали представители из Союза и забрали у нас скот. Нам здесь нечего было делать, и нас перевели в Потсдам. Это город такой, где проходила Международная Конференция.
«Хозяйство Дорохова» стало поставлять для Советской делегации продукты. Маму с нами поселили в доме, где жили и хозяева, немцы: две женщины, старая и молодая, с четырьмя детьми.
Я заметила, что они голодают, и стала тайком таскать хлеб с кухни для детей, зная, что такое голод. Вначале женщина отказывалась, а потом стала брать. За мою доброту она подарила мне отрез шотландки. Мама увидела её и спросила:
– Откуда?
– Немка подарила.
– С какой радости?
Пришлось признаться, что таскала для её детей хлеб. Мама удивлённо глянула на меня и задумчиво произнесла:
– Вот тебе и вилкой колоть… – она вздохнула и добавила. – Русская душа…
На этом разговор закончился. Я ждала разноса, а вышло так. О вилке и думать забыла, когда собиралась немцев колоть. Права мама – русская душа отходчива и не помнит зла…
После окончания Конференции, маминых коров отправили в Союз. Говорили, будто в Кремлёвское хозяйство. Так оно было, или нет, но коровы были отменные. Мама говорила:
– Это не коровы, а львицы с рогами…
Когда пригнали коров, маму перебросили к животным. Так она стала дояркой. Коров было шесть. Она мыла их с ног до головы два раза в день. Кроме мамы к ним никого не подпускали, даже меня со Славиком.
Приближался сентябрь. Многие уезжали домой. Нас не отпускали. Обещали в Потсдаме открыть русскую школу, но не открыли. В октябре мама настояла по причине, что детям нужно учиться. Так мы покинули Германию. Как добирались домой, это другая история.
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО С ЦЕЛИНЫ
«Здравствуйте, мои дорогие!
Нелля! Прочитал твои записи. Читал урывками в минуты отдыха. Кое-что вспомнил, и узнал новое, словно всколыхнуло память. Ты не написала, как я говорил, что стать сержантом просто: пришил три полосочки и готово. На самом деле не так просто, нужно кончать специальную школу. Но это к слову.
Работа у нас кончается. На днях уедем. Говорят, на Дальний Восток. Куда – неизвестно. Кончаю писать. Зовут! Потом закончу…
… Только освободился, в деревне случился пожар. Бабка гнала самогон. Аппарат вдребезги, бабку наповал, а дом вспыхнул, как коробок спичек, сразу весь. Вот и тушили его, чтобы не загорелись другие. Пока всё.
До свидания! Ждите писем из другого места службы.
Встретимся через тори года, когда закончу службу.
Ваш Славик.
Целина».
Эти записи я получил от Нелли Ивановны Ковбаса. Они велись хаотично. Всё перепутано и смешано, как патроны разного калибра. Пришлось выбирать главное, а главное – это Александра Трофимовна. Она, бывшая партизанка, в трудных условиях уберегла детей и вернулась домой.
Сейчас нет Александры Трофимовны. Умер и Вячеслав Иванович от инфаркта. Осталась одна Нелля Ивановна. Я часто замечаю в её глазах скорбь, когда заходит разговор о её родных, ушедших в мир иной. Земля им пухом.
---------------
Нелля Ковбаса в клубе "Побратим" с литераторами "Лиры Боспора"