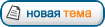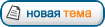ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ
СУДЬБЕ НАВСТРЕЧУ
I ОШИБКА
Шли по лесной узкой дороге, не очень торопясь. Погода стояла ясная и солнечная. В синем небе клубились редкие белёсые, похожие на гусиные перья в пучке, облака.
Сквозь густые кроны елей скупо пробиваются лучи жаркого светила. В смешанном лесу земля покрыта толстым слоем мёртвой листвы и хвои. Удивляет множество гнилых и свежих сучьев. Полным-полно яблок-кислиц и терпких груш-дичков.
Вдруг деревья расступились, и дорога вывела на опушку небольшой поляны. Она одним краем упиралась в говорливый быстрый ручей. Он о чём-то беседовал с берегами, а, нырнув под небольшой мосток, словно восклицал: «Здравствуй!» – наталкиваясь на сваи, повышал свой голос, но через минуту успокаивался и журчал дальше.
– Попьём? – предложил я.
– Привал? – обрадовался Васька.
– Ещё рано!
– Жаль! Я уже едва волоку ноги.
– Потерпи малость, – посоветовал я, глянув на солнце. – В полдень остановимся.
Мы попили воды и снова углубились в лес. За мостом дорога совсем исчезла. Осталась едва заметная, заросшая травой, колея. И опять спуски и подъёмы в лесных балках. Смотрю на Ваську, он совсем пристал.
Путешествие в горных лесах с непривычки – трудная штука. Тяжесть заключается не только в подъёмах, но и в спусках. Затрудняет движение щебёночное покрытие дорог. Накатанная галька с куриное яйцо то и дело попадает под ноги, и съезжаешь вниз, как на салазках, едва удерживаясь на ногах. В какой-то мере движение облегчает обувь.
Перед побегом я поменял свои кованые сапоги на полуботинки на резине. Если бы рискнул остаться в солдатской обувке, видимо, кубарем бы катился с косогоров, а их на нашем пути не счесть.
Несмотря на трудную дорогу, уходим всё дальше. Вначале разговаривали и даже шутили, а теперь всё чаще задираем головы на солнце, определяя время.
Вышли на открытую местность. Я осмотрелся. Картофельные и пшеничные поля. Вдали посёлок. Дома едва различимы. Высится шпиль кирхи. Видимо, это на ней приглушённо гудят колокола. До следующего леса далеко. Он призывно маячит на горизонте.
Выходим на щебёночную укатанную дорогу. Не останавливаясь, продолжаю идти. Усталость берёт своё. Нередко поглядываю на напарника. Он, видимо, идёт из последних сил. «На вид, – думаю, – крепкий и сильный, а на деле хлипкий».
Останавливаться на привал не разрешаю. На опыте зная, что после отдыха ещё трудней будет.
Как-то само собой получилось, что я оказался старшим – Васька, хотя и огрызался иногда, но слушался.
Чтобы не тратить силы на разговоры, – шагаем молча и думаем каждый о своём. Я вспоминаю дом, семью, отца. Он на второй день начала войны ушёл на фронт и сгинул на Перекопе. В ноябре сорок первого года мы получили бумажку, в ней сообщалось, что отец пропал без вести.
Это случилось перед приходом в Керчь немцев. Во время оккупации отцовы товарищи, не успевшие переправиться через пролив, остались дома. Вот они-то и сообщили, что отец погиб.
Перед боем, в конце октября, он и его второй номер находились в секрете с пулемётом. Секрет не очень приятная штука. Он всегда находится впереди окопов и принимает первый удар на себя.
После гитлеровской артподготовки на месте окопа, в котором находился отец и его напарник, обнаружили огромную воронку и одно покорёженное колесо от пулемёта. От людей и признаков не осталось.
– Вот и всё! – со вздохом выговорил я вслух.
– Привал? – спросил Васька.
– Когда будет шарик над головой, тогда сделаем привал.
Напарник разочарованно вздохнул и вырвался вперёд. Я посмотрел на него удивлённо, но ничего не сказал.
Встречались и крестьянские хутора. Как правило, одиночный, в два этажа, дом буквой «П». У хозяина всё под крышей: скот, птица, фураж, топливо, продукты для людей.
Мы обходили их стороной, лесом или полем, что ещё больше затрудняло наше движение. Не хотелось встречаться с лишними свидетелями.
И всё же однажды, как из-под земли, перед нами появился старый австриец с обвислыми усами и большой изогнутой трубкой в зубах. Похожа она на маленький бочонок с металлической крышкой. Снизу он поддерживал её рукой.
Одет встречный в зелёный френч с чёрным воротником, короткие штаны, обшитые кожей, в маленькой шляпе с торчащим сбоку пером, на голове.
Увидев старика, мы растерянно остановились. Он, проходя мимо, приподнял шляпу и глухо выговорил:
– Сервус!
Мы ничего не успели ответить, как он пыхнул несколько раз трубкой, обдав нас ядовитым дымом. Мы закашлялись. Австриец усмехнулся и прошёл мимо.
– Курит всякую дрянь! – буркнул я. – Нужно было дать ему табаку?
– Ещё этого не хватало! – разозлился Васька и пошёл дальше.
Я изумлённо посмотрел ему вслед, пожал плечами и крикнул:
– Эй, погоди!
Васька не ответил и, не оглядываясь, отмерял длинными ногами шаги. Мне пришлось бегом догонять его.
Торба за плечами становилась тяжелей, хотя в ней и не было большого груза. Всего две килограммовые буханки хлеба и сала с килограмм. Ещё смена белья и котелок.
Вот и весь груз, но с каждым часом он становился всё тяжелей. Будто хлеб превратился в увесистые булыжники, а сало в чугунную плиту.
Время приближалось к полудню. Солнце застряло над головой и изрядно припекало. Пот градом заливал глаза.
Есть хотелось всё больше и больше. Стало нудно сосать под ложечкой. Вспомнился Севастополь, тюрьма, Эдем. Мелькнула мысль: «Вот сейчас взбунтуется желудок, и начнутся мучительные рези!» этого я не мог допустить и строго крикнул:
– Васька! Кончай выпендриваться!
Тот резко, словно нажал на тормоза, остановился и непонимающе спросил:
– Чего?
– Бежишь, как угорелый, а говоришь, устал! Жрать пора! – командирским голосом приказал я.
– Да я чего, готов, как пионер, только…
Он трусливо, словно затравленный заяц, оглянулся по сторонам.
– Чего только? – не понял я.
– Нужно в лес уйти!
По его лицу было видно, что он хотел сказать совершенно другое. Не придав этому значения, я благосклонно согласился:
– Само собой! Не на дороге же?
Васька ещё раз осмотрелся вокруг и направился к лесу. Я, как привязанный, плёлся за ним.
Расположились мы в лиственном перелеске, который граничил с молодым, стройным ельником. Я повалился на прошлогоднюю траву. Она пахла нагретой солнцем хвоей и перепрелой листвой. Запах знакомый и приятный. Вдыхаю полную грудь лесного аромата и с наслаждением вытягиваю ноги, а вносу продолжают щекотать дурманящие запахи. Я громко чихнул и облегчённо вздохнул:
– Красо-та какая! Хорошо-то как!
– Будет хорошо, – злился Васька. – Сейчас нагрянет фриц с полицией…
– Фри-и-иц?! – удивился я. – Кого ты имеешь в виду?
– А того, с вонючей трубкой.
– Дался тебе этот австриец. Да он уже и думать забыл о нас.
– Ага, забыл! У меня до сих пор поджилки трясутся.
– Ну и трус же ты, Васька!
– Трус, трус! Пережил бы с моё, тогда посмотрел бы на тебя – герой!
– Откуда тебе знать, сколько я пережил?
– Мы чего сюда пришли? – не унимался напарник. – Жрать? Так давай!
– А у тебя что, ничего нету?
– Откуда у старухи трудодни, когда она в колхозе работает, – буркнул Васька и покосился на мою торбу.
– Понятно! – вздохнул я и стал развязывать узел на своём мешке.
Так вот и сел он мне на шею. Опять вспомнился Эдем, как делился, и подумал: «Значит, так должно быть. Долг платежом красен, – говорила моя мудрая бабка».
Весь день шли в неизвестность. Васька впереди отмерял длинными ногами торопливые шаги. Спешил он, словно на пожар.
Тяжело было. Донимала жара. Как на грех, не попадалось ни речки, ни ручья. Язык сохнул, пот градом катился со лба, заливая глаза; ноги словно онемели, отказывались идти, но мы шли и шли.
Иногда неподвижный горный воздух слегка колебался и тихий, невесть откуда, ветерок волновал зной, а вдали играло марево.
Я облегчённо вздыхаю. Никак не могу догнать Ваську и думаю: «Поначалу он казался мне смелым парнем, а оказалось – трус. Жаль! – вздохнул я. Ошибка вышла».
Чтобы проверить своё предположение, спросил:
– Ты куда бежишь?
– Подальше от того фрица, – выдавил он зло сквозь зубы.
«Значит, не ошибся, – подумалось мне. – Трус…»
Ваське ничего не сказал, но моё доверие к нему исчезло окончательно, растворилось, как туман летним утром. Вспомнились слова севастопольского деда, когда он давал мне советы: «Опасайся трусов. Трус всегда может предать…»
«А может, ошибаюсь? – вздохнул я. – Поживём, увидим!»
II НЕВЕЗЕНИЕ ЗА НЕВЕЗЕНИЕМ
На ночёвку остановились в лесу. Я растянулся на старой листве, пахнущей пылью и ещё чем-то приторным. Ноги гудели. В уме прикидываю – сколько прошли? Но определить не смог. Мои мысли перебил Васька:
– Давай пожрём, что ли?
– А ты о чём думал, – глянул я на него зло, – когда собирался дать тягу?
– Ты же сказал, что у тебя есть сало?
– Ну, ты и гусь! Мало ли что у меня есть? У меня и табак имеется!
– Я не курю!
– Как знаешь, а я закурю.
Делаю назло Ваське. Неторопливо свернул цигарку, прикурил от зажигалки, которую выменял на табак у солдат ещё в Штрасгофе.
Напарник нервно теребит конец поясного ремня, но терпеливо ждёт, пока кончу курить. Мне он с каждой минутой становится всё неприятней. Хотелось ему чем-то досадить. Я набирал полный рот дыма, и не торопясь, выпускал, стараясь сделать кольца, но ничего не получалось. И всё же, Васька не выдержал:
– Есть мы будем?
Я удивлённо глянул на него и хмыкнул:
– А ты на чужой каравай рот не разевай. Надо своё иметь, – продолжал злить его.
Когда Эдем делился со мной – это было другое. А этот беспечно собирался в бега. «Хотя бы сказал», – подумалось мне. Глянул на него. Он так растерянно лупал глазами и казался жалким и неприспособленным к такой жизни.
Я обшарил взглядом его нескладную фигуру и остановил свой взор на туго набитом вещмешке.
– Что у тебя в торбе?
– Одежда!
Больше я не стал издеваться над ним. Потушил слюной окурок и отрезал по куску хлеба и сала.
С едой управились быстро. Мы не отказались бы и ещё съесть столько же, но будет день, а за ним следующий.
Вытянул ноги и смотрю вверх. Ночью в лесу, словно в сказке. Где-то ухает филин и кричат ночные птицы. Через чёрную кисею листвы струится лунный свет, а на землю ложатся причудливые золотистые фигурки: кубики, угольники и что-то похожее на морского конька… Неподалёку, в тёмном углу, в куче листвы таинственно помаргивает голубым мерцанием гнилушка. Она фосфорится и светится, словно кошачий глаз.
Рассматриваю чудо природы, вздыхаю и незаметно засыпаю.
Утром просыпаюсь, когда солнце уже встало. Неподалёку гудят пчёлы и щебечут птицы.
Тихо. Деревья не шелохнутся – стоят, как солдаты в строю. Неожиданно по верхам прошелестел ветерок и утих. Неподалёку с сухим треском обломилась ветка и зашумела, падая сквозь листву.
Перекусили и отправились в дорогу. Всё было хорошо, пока не стали попадаться редкие прохожие. Обращаю на них внимание и замечаю, что они смотрят на нас с удивлением.
– Мне это не нравится, – отзываюсь я. – Уж очень подозрительно они таращатся на нас. Что будем делать?
– Не знаю! – пожал плечами Васька.
Он года на четыре старше меня, а мне в августе исполнится шестнадцать. Надеялся получить от него дельный ответ, но ошибся. Лицо его растерянно, глаза испуганно бегают. И я беру команду на себя:
– Быстро в лес! Там отсидимся, а в сумерках пойдём.
Васька безоговорочно подчинился. Мы расположились в густом кустарнике и стали наблюдать за дорогой.
Дорога на первый взгляд глухая, но движение по ней всё же было. Когда солнце поднялось выше, появилась пароконная добротная колымага. Она с грохотом прогромыхала мимо. В кузове тарахтели пустые молочные бидоны. Лошади фыркают от поднятой копытами пыли и отмахиваются хвостами от наседающих оводов и слепней.
Долго никого не было. Вдали загудел мотор. Показалась грузовая автомашина. В кузове генераторная установка, похожая на бочку, поставленную на попа. Работает она древесной чурке. Такая была в Штрасгофе.
И опять тихо. Солнце всё выше. Проехала на велосипеде грузная тётка с плетёной корзинкой на багажнике.
Опять тарахтит повозка. На этот раз с широкой площадкой вместо кузова. В пароконную подводу запряжена одна огромная, грузная лошадь с широкой, как аэродром, спиной.
– Я таких, – заговорил Васька, – видел у немецких артиллеристов.
– И в обозе похожие битюги, – дополнил я.
Подвода съехала в поле. И опять тихо. Жужжат пчёлы и осы. Солнце припекает не на шутку. Хозяин косит клевер и грузит на площадку кузова. Назад он ехал не скоро. Восседал, как царь на троне, на горе скошенной травы. Вдали заглох стук копыт и колёс .
– Видимо, – задумчиво проговорил я, – недалеко хутор.
Васька молчит и тревожно смотрит в сторону, куда скрылась подвода, а над ним кружит оса, похожая на немецкий истребитель.
– Уйдём в ельник? – предложил я.
– Давай уговоримся, – вдруг заговорил Васька. – Если попадёмся, то не знаем название лагеря.
– Это почему? – решил проверить его.
– Не хочу я опять туда.
– А я, думаешь, хочу?
– А лучше скажем – встретились в дороге.
– О-о-го-о! – удивился я. – А ты начинаешь соображать?
На этом мы надолго замолчали.
Мы лежим на мягкой хвойной подстилке, вытянув ноги. Я, не торопясь, курю. Выпуская дым, пытаюсь сделать кольца, но, как обычно, ничего не выходит. Напарник задумчиво жуёт травинку.
– Слушай, Васька, – неожиданно спросил я. – Что у тебя в торбе?
– Я же говорил – одежда.
– А ну, покажь!
Он развязал гузырь на мешке и вытащил форму немецкого солдата.
– Откуда это у тебя?
– Я был денщиком у немецкого офицера.
– Как ты попал к офицеру?
– В лагере для военнопленных отобрали десятка два. Я тоже согласился. Чем с голоду подыхать – лучше в денщики.
– Ты, паразит, за жратву и мать родную продашь, – процедил я сквозь зубы.
– Все умные! – вскипел Васька. – Поголодал бы с моё!..
Он ещё что-то говорил в своё оправдание. Я не стал с ним говорить на эту тему и не слушал его. Доверие к нему окончательно потерял. У меня создалось впечатление, что он ненадёжный и трусливый. Я тоже голодал и тоже боялся, но не до такой степени. Через некоторое время спросил его:
– А на завод как попал?
– Офицера отправили на фронт, а нас вернули в лагерь, но только в этот.
– Мда-а! – буркнул я.
И так продолжалось трое суток. Ночью шли – куда и зачем, и сколько прошли – неизвестно. Днём забирались в чащобу и спали.
Однажды на рассвете мы расположились на отдых в хвойном лесу. Неподалёку виднелся хутор из двух домов с яблоневыми садами.
Я разделил последний хлеб. Сала оставалось, если экономно, раза на два.
Васька дрожащими руками схватил свою пайку и стал жёлтыми зубами рвать твёрдое сало, жевать, громко чавкая.
Мне есть не хотелось. Усталость брала своё. Я положил под голову торбу, глянул на сидящего на пеньке Ваську и, засыпая, подумал: «Надо же быть таким жадным до еды?..»
Проснулся, когда солнце стало клониться к западу. Слышался неприятный звук. Казалось, будто где-то шлёпают тряпкой по воде.
Повернул голову на звук и увидел Ваську. Он по-прежнему сидел на пне и продолжал рвать зубами сало, словно и не ложился спать.
– Ты чего чавкаешь, как свинья? Перестань! Не то звездану меж ушей.
– Ты чего? – обиженно огрызнулся Васька, прижимая к груди мою торбу и косясь на меня.
Я не сразу сообразил, что происходит, а когда лапнул рукой под головой – пусто. Рядом лежали нижнее бельё и котелок.
Меня словно пружиной подкинуло. Вскочил на ноги и к напарнику.
– Он ещё и огрызается, паразит?
Тот сжался в комок, дрожащей рукой протянул мне пустую торбу, и набитым ртом промямлил:
– Бить будешь?
Я схватил мешок, пошарил в нём рукой. Пусто. Только в уголке нащупал немного крошек, и сказал:
– Сволочь ты, Васька! Всё сожрал! За такое в лагерях не бьют, а убивают! Или ты не знаешь неписанных законов?
– Знаю, – промямлил напарник.
– А чего ж ты сожрал чужое?
– Не знаю! Не могу терпеть, когда еда рядом. Должен её съесть.
– Ты что, дурак?
– Бывает, отшибает память…
Удивительно, но зла на него не было. Даже жалко стало это никчёмное и трусливое существо.
– Убивать тебя не стану, – строго сказал я, – а стоило бы. Да перестань дрожать! Просто брошу тебя – обжору и труса. Ты же своей тени боишься, а пайку товарища сожрал – не побоялся?
Я закинул на плечо торбу и, не оглядываясь, пошёл прочь.
Через несколько минут вышел на дорогу. Остановился, осмотрелся. Позади лес. Налево и направо – извилистая дорога с укатанной щебёнкой. Прямо, в километре, хутор. Хотелось есть, и под ложечкой стало нудно посасывать. Мне это состояние знакомо. Потоптался на месте, глядя на строения, и решительно направился к ним.
«Что будет, то будет! – подумалось мне. – А к людям выходить хочешь, не хочешь, а придётся».
Как ни храбрился, а боязно обращаться за помощью к австрийцам. И всё же, смело шагаю к жилью.
На крыльцо первого дома вышла женщина в старом клетчатом платье, голова не покрыта. Она приставила ко лбу руку козырьком от солнца и смотрела на меня
Издали рассматриваю её: лет сорока, красивая, каштановые волосы спадают на плечи. Бросились в глаза деревянные башмаки, выдолбленные из цельного куска дерева.
Подойдя ближе, растерялся, уставившись на неё, но заурчал желудок и напомнил, зачем я здесь. Выслушав мой сбивчивый рассказ, женщина молча ушла, оставив меня в неведении. Хотелось, было дать дёру, но что-то удерживало, и я нервно топтался на месте.
Вернулась хозяйка с горбушкой хлеба с полкило, и тонкой полоской сала. Она всё это передала, а я ей протянул деньги.
– Нет-нет! – отмахнулась она. – Быстро уходи! Полицай! – показала на соседний дом.
«Всё понятно», – мелькнуло в голове.
Женщина ещё что-то повторила несколько раз, но я не понял и, сказав спасибо, поспешил исчезнуть.
Васьки на прежнем месте не было. Я отломил кусок хлеба и сел на пенёк, на котором раньше сидел исчезнувший напарник. Жевал хлеб и сало и думал: «Куда подевался этот трус? Или храбрости набрался?»
Вдали загудел паровоз. Я чуть было не поперхнулся. Прислушался и определил: «До станции, примерно, километра три. Неужели, двинул туда?»
Бросив недоеденный хлеб в торбу, поспешил за Васькой.
Догнал напарника у самой станции. На окрик он остановился, посмотрел на меня, словно на пустое место, и пошёл дальше.
– Стой! Ты куда, паразит?
– На станцию! Осточертело блукать по ночам. Сяду в поезд и поеду.
– А тебя полиция хвать – и в кутузку!
– Ну и пускай! Там, по крайней мере, пожрать дадут!
– Догонят и ещё дадут!
Васька хотел что-то ответить, но махнул рукой и пошёл к станции, до которой не больше километра.
– Постой! – крикнул я. – На хлеба!
Это слово подействовало на напарника, как на солдата команда «Стой!». Он обернулся и с недоверием глянул на меня. Когда я показал ему свою добычу, он тут же вернулся.
Хлеб разделили поровну, а насчёт сала я сказал:
– Ты своё сожрал.
Васька промолчал. Мы уселись на обочину и, не торопясь, жевали.
– На станцию сейчас нельзя, – сказал я.
– Почему?
– Ночь наступает. Могут принять нас чёрт знает за кого.
– Ты тоже со мной?
– Куда ж девать тебя, недотёпу.
– Тогда ладно! – согласился Васька.
Ночевали в лесу. Среди ночи меня разбудил большой силы гром, словно над ухом грохнули из пушки. Открыл глаза, а тут блеснула молния и хлынул дождь. На нас надвигалась чёрная, как сажа, туча. Я тормошу напарника.
– Ты чего?
– Дождь!
– Этого ещё не хватало, – буркнул Васька.
Мы укрылись под раскидистой ёлкой, словно в квартире. Её широкие лапы надёжно укрыли нас.
– Как же теперь? – отозвался Васька.
– Что как? – не понял я.
– Ну, дождь?
– Ничего страшного – лето.
Потянуло прохладой, а дождь идёт, сверкают молнии, гремит гром. Васька вздохнул, достал из торбы френч и надел, а мне протянул штаны:
– Укутайся!
– Хоть такая от тебя польза, – усмехнулся я.
– Издеваешься? – с обидой в голосе отозвался Васька.
– Но ты заслужил!
– Виноват, – вздохнул напарник.
– Да ладно уж! Дело прошлое, – примирительно проговорил я.
А непогода не на шутку разыгралась: шумел дождь, гремел гром, а молнии сверкали ярче электричества.
Утром дождя как не было. Сверкало восходящее солнце, только птицы сидели на деревьях нахохлившись, словно курица на яйцах. Ощущалась прохлада. Но мы вышли на дорогу. Я оглядел Ваську с ног до головы и сказал:
– Мы словно под гусеницами танка побывали.
– Это почему? – не понял он.
– А ты глянь на меня. Может нормальный человек появиться в таком виде в общественном месте?
– Что ты предлагаешь? – пожал плечами Васька.
– Найти речку или ручей, в крайнем случае, лужу после дождя.
– Зачем?
– Тупой же ты, Васька! Помыться, почиститься.
– Пока будем возиться, время уйдёт.
– А ты что, в полицию торопишься?
– Жрать хочется.
– Понятно! – хмыкнул я. – Ты вообразил, что в полиции тебя ждёт накрытый стол с заморской жратвой, например: брюквой и шпинатом?
– Всё издеваешься?
– Зачем? Предлагаю пойти во-о-он в тот дом, серый, с высоким крыльцом… – и показал в сторону хутора, в котором побывал вечером.
– Шутишь?
– Нет! Там живёт полицай. Скажи ему – вот, мол, я сдаюсь, а мой компаньон издеватель – не пускал.
– Перестань! За кого ты меня принимаешь?
– За того, кто ты есть на самом деле. Ты ведь хотел в полицию? Хотел! Не отнекивайся.
– Ну, хотел. Ну и что? Ты-то при чём? Выдавать тебя не собираюсь. Да и названия лагеря не помню.
– Неужто? – удивился я.
– От голодовки ослабла память. И вообще, я тихий и слабый. После побоев тупею.
– Откуда ж ты, такая нежность?
– Москвич!
– А я думал – в Москве нормальные люди, а оказывается…
– Дурак, что пошёл с тобой!
– А я, думаешь, в восторге?
– Пожалел об этом на второй день! – кипятился Васька.
– А я ещё раньше понял это, но молчал.
– Сказал бы. И разошлись бы, как в море корабли!
– Тебя и сейчас никто не держит. Вали на все четыре стороны!
– Всё командуешь?
– А что делать? Ты же продашь меня с потрохами, при случае!
– Я же сказал, что мы встретились в дороге.
– Ты идёшь приводить себя в порядок? – продолжал я.
– Ладно! Пошли! – согласился Васька.
Я глянул на солнце. Оно уже поднялось высоко и изрядно припекало. Вдали блестела лужа. Туда и направились.
У большой ямы мы плескались, чистились, сушились, а часа через два, умытые и причёсанные, появились на маленькой станции.
Небольшой перрон, похожий на кусок заасфальтированной дороги, пустовал. Единственное строение с тюлевыми занавесками и цветами на окнах, больше походило на обыкновенный жилой дом, чем на станцию. Но о том, что это именно так, свидетельствовала вывеска на фасаде и маленькое оконце с надписью «Касса».
Я огляделся. Ничего подозрительного не заметил. Глянул на задумчивого Ваську и спросил:
– Деньги у тебя хоть есть?
– Откуда! – пожал он плечами.
– Послал же бог напарничка на мою голову!
– А я не заставлял заботиться обо мне.
– Мадонна! – покачал я головой. – И откуда берутся такие тараканы?
Я постучал в фанерку с надписью «касса». Окошко закупорено, как в танке люк. Подождал малость и опять стукнул. Фанерка шевельнулась и отодвинулась в сторону. В свободное пространство выглянул пожилой усатый австриец в красной фуражке. «Начальник! – подумалось мне, и тут же поправился. – Дежурный!»
Он с удивлением оглядел нас с ног до головы и спросил:
– Чего угодно?
– Билеты до Вены, – протянул я ему купюру в пятьдесят марок.
Деньги он взял, продолжая подозрительно коситься на нас, выдал билеты, сдачу, и захлопнул дверцу.
Только теперь мне пришло в голову, что мы совершили большую глупость, появившись в этом захолустье. Но отступать было поздно.
– Хана нам, Васька! – невесело усмехнулся, обращаясь к напарнику. – Повяжут нас!
– Почему?! – удивился тот.
– Да ты что, в самом деле ничего не соображаешь? Да потому, что здесь все знают друг друга в лицо…
– Ничего не понимаю! Билеты дал…
– Да чужаки мы – ещё и русские. Значит, беглые. Когти нужно рвать!
– Никуда я не пойду! – отрезал Васька. – Нагоняешь на себя блажь.
– Истинный крест – загребут! Чует моё сердце.
– Боишься? Отдай мой билет и уходи.
Хотел я было последовать совету напарника, когда на перрон вышел человек в красной фуражке и в железнодорожной форме.
– Поздно! – вздохнул я.
– Почему? – не понял Васька.
– Да это тот самый австриец, который продал билеты. Он вышел встречать поезд.
– Почём знаешь?
– Ты в каком лесу жил, Васька? С флажками поезда встречают.
Австриец достал из висящей на поясе сумочки флажки, а тут и поезд дал о себе знать длинным заливистым гудком.
– Во-о, слышь!
– Ты же собирался уходить? – спросил напарник.
– Нет смысла. Австриец увидит, куда уйду, да и поезд идёт. Поеду с тобой, а там видно будет.
… В вагоне кондукторша усадила нас на места и ушла. Вроде бы всё шло, как должно быть, но сердце почему-то неспокойно.
Прошёл контролёр. Высокий, как оглобля, и худой, словно кощей. Глянул на наши билеты и исчез в следующем вагоне. В двери щёлкнул замок. Это привело меня в смятение, и я заёрзал на сидении, словно на горячей сковороде. Васька спокойно смотрит в окно и ни на что не обращает внимания.
– Слышал? – спросил я.
– Что?
– Как замок щёлкнул. Бежим! Не нравится мне всё это.
– Не паникуй, – отозвался Васька. – Нужен ты им, как зайцу…
Он не договорил. Появилась кондукторша в железнодорожной форме.
– Повяжут! И в тюрягу. Недаром эти коршуны кружат около нас.
– Это тебе кажется так.
Внимательно вглядываюсь в напарника. Он на удивление спокоен и даже весел. Мне его веселье было непонятно, и невольно я подумал: «Поди, разберись в этом человеке? То он боится каждого куста, а то вдруг такой порыв отваги?» Пожав недоумённо плечами, вздохнул и отвернулся к окну.
Поезд шёл не очень быстро. Время приближалось к полудню. Видно, как в степи косят траву и возят сено на лошадях. Однообразный пейзаж не привлекал меня. Я задумчиво смотрел на него, но ничего не замечал. Перед моим застывшим взором появлялись совершенно другие картины. Вздыхал я и думал: «И чего такой невезучий? В сорок первом пытался убежать на фронт, – тогда все мальчишки рвались воевать, – милиция вернула. В Севастополе не повезло. Здесь тоже пахнет керосином. Это и дураку ясно. Пасут. Не дадут уйти…»
Паровоз дал гудок. Я вздрогнул и поднялся.
– Всё! – сказал. – Нужно уходить.
– Отдай мой билет. Я с места не сдвинусь! Для меня лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
– Как знаешь, – проговорил я, протягивая билет.
Мимо торопливо прошла к двери кондукторша. Моя тревога усилилась. Глянул на противоположную дверь – там стоял контролёр.
– Всё, заперли!
Сердце-вещун не обмануло. Хотя я сразу понял, что нас отсюда не выпустят. Пока торговался с Васькой, поезд заскрипел тормозами, дёрнулся и остановился.
Меня забрали прямо в дверях, вошедшие в вагон два полицая. Один вывел меня на перрон, а другой пошёл за Васькой.
III ПРЕДАТЕЛЬСТВО
По небольшому посёлку вёл нас старый полицай, а другой остался на станции. Осматриваюсь. Пытаюсь оценить обстановку.
«Ерунда, – решаю – Можно убежать. Правда, кобура расстёгнута…»
– Слушай, Васька! – толкнул я напарника. – Давай ты в одну сторону, а я в другую?
– Пулю схлопотать в спину? Нема дураков – поженились!
– Ну и гадина ты! – злился я. – Заманил, а теперь идёшь, как телок на бойню. Пожрать, надеешься, дадут? Смотри, не подавись!
– Я? Я заманил? – возмутился Васька. – Сам подбил меня, а теперь…
Я хотел обозвать попутчика самыми пакостными словами. Уже рот открыл, когда что-то твёрдое упёрлось мне под ребро. Резкая боль заставила вздрогнуть и оглянуться. Это конвоир стволом пистолета поддел меня. «Понимает по-русски, – мелькнула мысль. – А я разговорился».
Дальше молчал. По дороге попадались прохожие. Большей частью женщины и пожилые мужчины. Они уступали нам дорогу, провожали удивлёнными взглядами.
Так подошли к двухэтажному дому, где находилась полиция. Конвоир доложил. Дежурный глянул на нас и сказал:
– Господин начальник отдыхают! – он подал полицаю длиннющий, с аршин, ключ. – Запри их!
Посадили нас в камеру в полуподвальном помещении с толстыми дубовыми дверями и старинной витой решёткой на узком, у самой земли, окне. Стены, нары и само окно густо оплетены паутиной.
– Слушай, Васька, – усмехнулся я, – здесь, видимо, от сотворения мира никто не сидел?
– Отстань! – буркнул он, нервно покусывая ногти на правой руке.
Я пожал плечами: «Решает задачу, как разжиться жратвой…»
В углу стоял обтрёпанный берёзовый веник. Я обмёл им нары, стены, окно и выглянул в него. Оно выходило во внутренний двор полиции и расположено было так низко, словно амбразура, у самой земли: ничего нельзя увидеть, кроме ног.
Вот протопали тяжёлые мохнатые лошадиные, с широкими копытами, а за ними прокатились, тарахтя по булыжнику, большие колёса телеги. А вот, в центре двора, у водоразборной колонки, появились пухлые босые женские ноги. Они стояли несколько минут, пока наполнялось ведро. Крупные капли воды упали на нежную кожу и засверкали, словно гранёные алмазы.
Больше ничего интересного за окном не было. Я лёг на нары и стал наблюдать за Васькой. Он шагал по камере, смешно выбрасывая в сторону длинные ноги, и нервно покусывал ногти, теперь уже на левой руке. Мне показалось, что напарник решает какую-то сложную для себя задачу, от которой мне добра не ждать. Я прикрыл глаза и стал дремать.
Что ни говори, а даже в таком помещении во сто крат лучше, чем в самом шикарном лесу, и я уснул.
Проснулся, когда Ваську вызвали на допрос. Не было его около трёх часов. Хотелось есть. В торбе у меня пусто, как у церковной крысы в норе. А нудный червячок сосёт и сосёт под ложечкой. Я катался по нарам, пытаясь успокоить его, но это не удавалось. Желудок требовал еды. Загремели запоры, и в камеру вошёл сияющий, как полная луна, напарник.
– А меня берут в воинскую часть! – доложил он с порога.
Дверь глухо стукнула. Полицай загремел ключом и ушёл. Я поглядел на радостного напарника и усмехнулся:
– Пожрать, видно, дали?
– Дадут, а что?
– Ничего! Ты за жратву и душу продашь чёрту. Гад ты, Васька! Задушить тебя, что ли?
– Но-но! Кричать буду! – предупредил он и боязливо покосился на дверь.
– Не бойся! Не трону! Не хочется о такую мразь руки марать.
– Цаца нашлась! – съехидничал будущий вояка вермахта.
– Ты хоть не сказал, откуда убежали?
– Хотел бы, да не помню названия лагеря. Крутится в голове какой-то «верк». Там ещё что-то было впереди. Я им наврал, что встретились по дороге.
– И на том спасибо!
Вызвали меня примерно через час. В широком коридоре второго этажа полицай обшарил мои карманы. Он ничего не нашёл, кроме табака и зажигалки. Курево сунул в свой карман, а зажигалку отдал. «Паразит! – подумалось. – Забрал последнее».
Вдруг послышался громкий голос. Конвоир вытянулся, словно шомпол проглотил, и уставился расширенными глазами на дверь кабинета. Неожиданно она распахнулась и в коридор вывалился невысокий и круглый, как бочонок из-под пива, мужчина лет пятидесяти в зелёной полицейской форме. Конвоир ещё больше задрал подбородок. «Ага, никак, это и есть начальник, – усмехнулся я про себя, – круглый, словно бильярдный шар».
Мой сопровождающий что-то сбивчиво затараторил. Начальник вернулся в кабинет и сел за массивный стол. Меня затолкали в помещение. Полицай стукнул каблуками и поспешил исчезнуть.
– Папир! – потребовал начальник.
– Нема! – пожал я плечами.
«Вовремя спрятал, – подумал. – Сейчас начались бы неприятности для меня». Словно чувствуя, сунул удостоверение в щель между стенкой и нарами в камере. Этот аусвайс выдали мне в Штрасгофе перед тем, как нам обещали увольнительную. Сделал я это, пока Васька отсутствовал.
На моё неопределённое пожимание плечами начальник стукнул кулаком и закричал, мешая слова со слюной. Я переминался с ноги на ногу и пугливо косился на дверь, словно за ней, в коридоре, находятся все мои беды.
Наконец, хозяин кабинета сообразил, что мальчишка ни черта не понимает. Он умолк, смерил меня взглядом и позвал полицая.
Минут пять в кабинете стояла напряжённая тишина. Начальник уткнулся в лежащие на столе бумаги, а я топтался, как застоялый конь, уставившись на портрет Гитлера над головой главного полицая.
Открылась дверь, и в кабинет вошёл старый австриец с обвислыми усами и трубкой-бочонком с изогнутым мундштуком. Он пыхал дымом и внимательно слушал начальника. Наконец, вытащил изо рта трубку и сказал:
– Шеф спрашивает, где твои документы?
– Какие документы? – прикинулся я дурачком.
– Аусвайс!
– В лесу потерял, при ночёвке.
Переводчик что-то говорил, начальник слушал и кивал, а потом сам говорил. Теперь старик слушал и пыхтел трубкой, как паровоз. Потом кивнул, что, мол, понял и казал:
– Шеф интересуется, – тоже изъявишь желание вступить в русскую освободительную армию?
– Что-о-о?! – у меня от удивления отвисла челюсть. – А кто дал согласие?
– Твой товарищ!
– Какой он мне товарищ, – буркнул я.
Переводчик, видимо, понял моё отношение к напарнику, окинул меня пытливым взглядом, усмехнулся в усы и продолжал:
– Вы же вместе были?
– Я его встретил по дороге. Он мне совсем незнакомый, – а чтобы не наживать лишних врагов, вежливо сказал. – А в армию я не гожусь.
– Почему? – это спросил начальник, после перевода.
– Мне ещё и шестнадцати лет нет.
У меня внутри закипал гнев. Попадись в ту минуту Васька – задушил бы его – за предательство. Одно дело служить денщиком у офицера, а быть власовцем – это уж простите…
У меня ещё спрашивали, откуда убежал. Наплёл им, будто отстал от эшелона, в котором остались мать с младшими братом и сестрой. Меня выслушали и отправили назад в камеру.
Дверь камеры распахнута. Васька сидел на нарах, поджав под себя ноги по-татарски. В одной руке он держал большой кувшин, а в другой – бутерброд с мармеладом. Он громко чавкал и по-немецки что-то рассказывал смешное моложавой толстушке в цветастом платье. Она заливисто смеялась. Толстуха чуть подвинулась, и я увидел на старой газете стопку бутербродов.
Когда я появился в дверях, Васька поперхнулся и закашлялся. Я подошёл к нему, отобрал кувшин с молоком, отставил его подальше, отложил в сторону бутерброды.
В груди у меня клокотало от гнева. Толстушка, видя, что дело пахнет керосином, поспешно исчезла за дверью, громко хлопнув ею. Щёлкнул дверной замок, и наступила тишина.
– Ах ты, стерва! – процедил я сквозь зубы. – Продался за молоко, гад? Значит, в добровольцы, сволочь? – и изо всей силы ударил предателя в нос. Появилась кровь. – Получай! – кричал я, нанося удары, куда придётся.
Он закрыл лицо руками и дёргался, как параличный. Открылась дверь, в камеру вбежал полицай, с трудом отнял у меня предателя и увёл его, а мне показал кулак.
Стукнула тяжёлая дверь, щёлкнул замок, и стало тихо, как в склепе, только слышно журчание воды у колонки. Меня трясло, словно в лихорадке.
Я нервно ходил по камере, а когда малость успокоился, глянул на кувшин и газету с бутербродами, глотнул голодную слюну и отвернулся.
Долго шагал от стенки к стенке, изредка косился на еду, вздыхал и отворачивался.
Вдруг остановился. В моей голове роились противоречивые мысли: одни запрещали притрагиваться к предательской еде, а другие отрицали – еда есть еда. Победил здравый смысл, я подумал: «Глупо иметь пищу и быть голодным. И вообще. Её принесли на двоих. Это Васька мог сожрать всё…»
С едой расправился быстро. На душе сразу повеселело. Теперь можно и на боковую.
Проснулся среди ночи. Темнота непроглядная. Тело горит огнём. Остервенело чешусь пятернёй и не могу понять, что происходит?
Сел на нарах, чиркнул зажигалкой и ужаснулся. При мерцающем свете увидел полчища клопов. Они наступали в мою сторону, как немецкие танки в сорок втором на керченскую переправу.
Меня словно ветром сдуло с нар. Остаток ночи провёл на ногах. Но клопы и в таком положении не оставляли меня в покое. Они взбирались на потолок и, словно «мессершмидты», пикировали на голову. Я давил их и смахивал с лица, а потом топтал ногами. От неприятного запаха меня тошнило, но с трудом удерживался.
Только с рассветом, когда в камере посветлело, клопы исчезли. Я облегчённо вздохнул.
Часов в восемь утра пришёл полицай, открыл дверь и ахнул. Он порылся в нагрудном кармане и подал мне небольшое зеркальце. Я глянул в него и недоумённо повернулся к полицаю. Тот пожал плечами. Я глядел на окровавленное лицо и понял, что это следы от раздавленных клопов.
Отмывался у колонки. Неожиданно просигналила автомашина. Полицай поспешил открыть ворота. Я остался один. «Бежать!» – мелькнула мысль. Оглядевшись, понял, что это невозможно. Двор огорожен высокими стенами с колючей проволокой наверху. Автомобиль развернулся и остановился у подъезда.
Подошёл полицай и стал торопить меня с умыванием. Отмыться без мыла было не так просто. Я тёр лицо руками и косился на машину. Она стояла ко мне задом и что делается в кабине, не видно. Но вот, из неё выскочил вертлявый худой офицер в зелёной полевой форме. На крыльцо вышел начальник полиции. Он словно колобок катился навстречу офицеру. Тот что-то докладывал и кивал на машину. Начальник крикнул в открытую дверь, – я не разобрал.
На пороге появился Васька. Я глянул на него и от удивления выпрямился. Его левый глаз сверкал на солнце фиолетовым «фонарём».
«Вот это да! – подумалось. – Неужели это я его?..»
Бывший напарник покосился в мою сторону. Я погрозил кулаком и крикнул:
– У-у-у, гад! Предатель вшивый! Попадёшься ещё – удушу!
Полицай дёрнул меня за рукав. Я вырвался и обернулся. Конвоир украдкой показал кулак и покачал головой. Я осёкся и понял, что своей несдержанностью могу накликать на себя беду.
Пока был занят полицаем, машина фыркнула сизым дымом, и не торопясь, покатила за ворота. Васька сидел спиной и не оглядывался. Я о нём не сожалел. Для меня он с этой минуты не существовал. Только обидно стало, что так ошибался в человеке.
Начальник полиции глянул на нас и поманил пальцем. Я не понял, что он хочет и оглянулся на конвоира. Тот утвердительно кивнул и показал на дверь. Начальник ушёл. Мы последовали за ним в помещение.
Томился я у дежурного часов до десяти. Начальник со мной так и не поговорил. От нечего делать, изучаю через окно дворовые постройки, колонку, у которой мылся. Неподалёку от неё воробьи затеяли свару в куче конского навоза. «Всюду, – подумалось мне, – они одинаковые. Что русские, что австрийские!» – и усмехнулся.
Из двухэтажного дома напротив, под которым подвал, где я сидел, вышла костлявая высокая женщина. На ней дорогое платье, а на голове шляпка с перьями. Она шла, важно приподняв подбородок. За ней семенила с плетёной корзинкой через руку вчерашняя толстушка, которая болтала с Васькой. Я привстал, чтобы рассмотреть эту пару. Не трудно было смекнуть, что это начальница и служанка.
Они прошли через двор к воротам и исчезли за калиткой. Больше ничего интересного не было. Даже воробьи разлетелись. Я отвернулся от окна и принялся разглядывать свои грязные ногти.
Вскоре появился здоровенный полицай и увёл меня на станцию.
IV ТЮРЬМА В САНКТ-ПЕЛЬТЕНЕ
На железнодорожном вокзале в ожидании поезда изнывало десятка два пассажиров: несколько женщин в простых платьях в клеточку (у нас такой материал называют «шотландкой»), а у ног плетёные корзинки; мужчины, все в возрасте, одетые в короткие штаны с обшитым кожей задом, куртки зелёного или серого цвета, но все с чёрными или коричневыми воротниками. Неизменные гольфы и небольшие шляпки с перьями и метёлочками.
Солнце поднималось всё выше и изрядно припекало. Мы с полицаем вышли на перрон и устроились на большой садовой скамейке со спинкой. На неё падала тень от небольшого строения.
Я смахнул пот со лба, вздохнул и подумал: «Ну и жарища! Как летит время. Давно ли был март в Севастополе, а сейчас середина июня и Австрия? И опять я под конвоем».
Уже около часа ждём поезда. Австрийцев что-то волнует, и они переговариваются между собой. А я подумал: «Чего они? Видно, поезд опаздывает?»
В этот момент в висящем над моей головой громкоговорителе булькнуло, затрещало, и зычный женский голос объявил:
– Внимание, внимание – воздушная тревога!
Я хотя плохо понимал немецкий язык, но разобрался, в чём дело и глянул на небо. Самолётов не было.
Предупреждение повторялось несколько раз. Пассажиры замерли на своих местах и уставились на радиорепродуктор. Они ничего не понимали.
Позже мне объяснили, что это была первая боевая воздушная тревога в Австрии с тех пор, как началась война «с русскими». И мне тогда подумалось: «Ничего себе? Уже сорок четвёртый год, а они живут, как у Бога за пазухой…»
Шок продолжался не больше минуты. Вдруг народ загалдел и ринулся к выходу со станции, побросав ручную кладь там, где стояли. Как умалишённые, сбились в узком проходе калитки, образовался затор. В этот момент к перрону подкатил пассажирский поезд.
Не успел он остановиться, как из него горохом посыпался перепуганный народ и хлынул в бомбоубежище, которое находилось за станцией. Опять образовалась пробка.
Я сидел на скамейке и спокойно наблюдал за переполохом, а потом захохотал. Нервно топтавшийся за моей спиной полицай вдруг, с тревогой в голосе, заговорил по-русски. Не совсем чисто, но понятно:
– Чего смеёшься?
Я изумлённо глянул на него и стал объяснять:
– Какого чёрта паникуют? Самолётов-то нет!
– А вдруг налетят?
– Вот когда загудят, тогда и прятаться.
– А поздно не будет?
– Всяко бывает. Вы здесь войны не видели, а мы, керчане, привыкшие к бомбёжкам и к орудийным обстрелам…
– Как можно привыкнуть к такому? – вздохнул полицай.
– А вот так! Нас колотили в сорок первом, в сорок втором и в сорок третьем, днём и ночью, свои и немцы…
– Да-а-а! – вздохнул конвоир.
– Любой керчанин, – продолжал я, – глядя на бегущих, сказал бы: «И чего перепугались, когда и не слышно гула самолётов?»
Моё спокойствие, видно, передалось и полицаю. Он тронул меня за плечо и сказал:
– Пошли в вагон. Там не так жарко.
Воздушная тревога продолжалась около двух часов. Я сидел у окна и с интересом изучал брошенные чемоданы, баулы, саквояжи, сумки, плетённые из лозы корзинки, и думал: «Интересно, что в них натолкали?»
Незаметно стал дремать. И тут послышался приглушённый гул самолётов. Я встрепенулся, а полицай сказал:
– Пошли?
Мы вышли из вагона и увидели, как по горизонту летела огромная стая американских бомбардировщиков, а вокруг, как осы, кружили истребители.
– И чего прятаться? – пожал я плечами. – Нужна им эта станция, как собаке пятая нога.
– Теперь и я вижу!
В вагон мы не пошли, а сели на скамейку и наблюдали за летящими самолётами.
Примерно через час они возвращались. Полицай встал и сказал:
– Теперь пошли!
Когда объявили отбой, мы спокойно сидели в вагоне и наблюдали за сутолокой пассажиров.
Наконец паровоз дал гудок, и поезд пошёл дальше.
Ехали недолго. Сошли на станции под названием «Санкт-Пельтен». Стандартное здание вокзала, со стрельчатыми окнами и широкими входными дверями, мрачно хмурилось серыми стенами. В стороне уборная с женским и мужским отделениями. Зелёный штакетник вокруг перрона и больше ничего интересного.
Мы вышли через калитку на привокзальную площадь. Поодаль несколько автомашин и одноконных пролёток. Седоков почти нет.
По приказу полицая, пересекли площадь и вышли на городские улицы. Шли недолго. Обошли небольшой сквер и остановились у серого мрачного здания с полуметровыми лепными буквами на фасаде. Я задрал голову и прочитал: «Криминал полицай».
С первых шагов понял, что это не что иное, как тюрьма или что-то в этом роде. Меня обыскали. Забрали зажигалку и предупредили, что курить здесь строго-настрого запрещено.
Спросили фамилию и записали в толстую книгу. Я назвал имя двоюродного брата, свою побоялся: а вдруг подали в розыск.
Оформление закончилось, сфотографировали, надели наручники и отправили в карцер.
Надзиратель, которому меня передали, двинул в спину так, что я влетел в камеру, как выбитая пробка из бутылки, и не удержался на ногах, грохнулся, словно чурбан, на цементный пол.
И оказался в положении жука, которого мальчишки перевернули вверх лапами. Я барахтался, дрыгал ногами, но долго не удавалось лечь на живот. Не было упора и мешали скованные за спиной руки.
Наконец нащупал правой ногой в полу ямку, упёрся и перевернулся. Теперь было проще. Подполз к стене, побарахтался и с большим трудом сел. Облегчённо вздохнул и прислонился спиной к холодному камню-дикарю. «Правду говорил севастопольский дед, – стал рассуждать я, – все тюремщики на один манер. Обязательно должны турнуть в спину».
И накатились на меня воспоминания о родине, до судорожного вздоха: «Дома уже война кончилась. Наши освободили Крым, подошли к румынской границе. А здесь продолжают лютовать фашисты».
Как бы хотелось побывать дома, взобраться на гору Митридат. Увидеть с её высоты бульвар, бушующее море, разрушенный, но родной город…
Тряхнул головой, словно сбрасывая с себя дорогие сердцу видения. Просто не хотелось дальше растравлять душу. От нечего делать, стал изучать своё вынужденное жилище.
В нише над дверью тусклая электролампочка. Она своим блеском едва освещает помещение. И всё равно стоит полумрак. Окон нет. Сквозная ниша служит не только для лампочки, но и для вентиляции. Неоштукатуренные стены, сложенные из камня-дикаря, голыми рёбрами его торчат во все стороны. Потолок и пол бетонные. «Отсюда не убежишь, – пришёл к выводу . – Зато сухо – не то, что в севастопольском «СД». Можно спать…»
Осмотром остался доволен. Вот только наручники мешали. Чем больше шевелишь руками, тем сильней сжимают запястья. И сидишь без движения, как фарфоровая кукла.
Кормили раз в день, в полдень. Тогда наручники снимали, а после еды надевали. Мне было непонятно – за что? И решил: «Видно, порядок у них такой?»
На третьи сутки перевели на второй этаж, но наручники не сняли. Переступив порог большой камеры, я остановился и осмотрелся.
Справа во всю длину стены нары. На них человек двадцать заключённых. Некоторые спали, двое играли в шахматы. Я уставился на них. Меня поразило то, что в этом заведении есть шахматы. Но когда присмотрелся, – понял: это самоделки из хлебного мякиша. Хлеб был такой, как говорила моя бабка, – можно коников лепить. Доской служила часть нар, расчерченная на квадраты.
Глянул налево. В углу бачок с водой, а неподалёку параша. Прямо, под окном, на длинной широкой скамейке лежит человек. Мне показалось, что это покойник со сложенными на груди руками. Присмотревшись, увидел, что он дышит и даже шевелится. Облегчённо вздохнул, вышел на середину и сказал:
– Здрасти!
На меня никто не обратил внимания. Я пожал недоумённо плечами и сел на толстый сосновый чурбак, который, видно, заменял скамейку.
Сижу несколько минут, осваиваясь. Напротив широкое и светлое окно с решёткой. Вид из него на глухую стену. Не найдя больше ничего, что могло бы меня заинтересовать – полез на нары в свободный угол. Один из играющих, парень лет двадцати, постриженный наголо, буркнул:
– Это моё место.
Его напарник глянул в мою строну и сказал:
– Пускай! Он в наручниках.
Больше меня никто не трогал. Просто не обращали внимания. Одни играли, другие храпели, третьи о чём-то спорили.
Вытягиваю ноги и чувствую облегчение. В карцере спал на цементном полу, поджав под себя ноги. Другой раз даже судорога хватала. Тогда растирал, как мог, затёкшие места и шагал по камере.
Здесь совсем другое дело. Пригрелся и незаметно уснул. Даже галдёж арестантов не помешал.
И снится мне, будто я с отцом на сенокосе, перед самым началом войны. Приятно и привольно в степи. Светит жгучее солнце. В небе жаворонок заливается, как колокольчик. От лёгкого ветерка колышется высокая трава, а вдали серебрится ковыль.
Я лежу у шалаша в тени. Неподалёку отец на костре варит кулеш для косарей. Смотрю на родителя и удивляюсь:
– Батя, вы же погибли?
Отец хотел что-то ответить, но тут появилась лошадь и наступила мне на руку. Боль пронзила в самоё сердце. Я вскрикнул и проснулся.
На мой крик отозвался один из игроков, тот, который позволил занять это место.
– Ты чего?
– Жмут, спасу нет!
– А ну, покажь?
Парень подсел ко мне, расчесал пятернёй длинные волосы, а я подумал: «Как это сберёг он причёску?» парень тем временем осмотрел внимательно браслеты и вымолвил:
– Открою!
– Врёшь! – не поверилось мне. – Их же ключом…
– Ерунда! Замок чепуховый. Не такие открывал.
Он достал из кармана спички, вытащил из коробка одну и стал копаться в механизме. Не прошло и минуты, что-то щёлкнуло и наручники разинули свою хищную пасть.
Я растирал запястья, чтобы разогнать застоявшуюся кровь, а мой спаситель наблюдал за мной и улыбался.
– Ну, как? – поинтересовался он.
– Спрашиваешь! Здорово сомлели, как иголками колет в пальцы.
– Ничего, это пройдёт.
– Спасибо, браток!
– Ладно, ладно! – смутился парень и посоветовал. – Ты полезай в самый угол, чтобы в глазок не заметили.
– Там же спит твой напарник, – кивнул я на второго игрока в шахматы.
– Я староста. Где скажу, там и будет спать.
– Зачем говорить, – отозвался напарник. – Что я, не понимаю.
Мне ничего не оставалось, как с благодарностью принять предложение товарищей.
Так и пошло. Днём сижу в уголке без наручников. Если нужно на парашу – ребята становились так, чтобы закрыть волчок, а староста рядом с браслетами, на всякий случай. На ночь он вставлял в механизм по кусочку спички, чтобы застопорить автомат. Если днём в двери лязгал ключ, староста тут же защёлкивал на руках опостылевшие «оковы».
Постепенно осваивался и перезнакомился с узниками. Здесь оказались представители почти всех европейских наций и даже один турок.
Как он попал сюда, неизвестно, но с нами не разговаривал, не ел ничего, спал отдельно на скамейке. Днём сидел в углу, под окном, поджав под себя ноги, качался и что-то бормотал. Так продолжалось, пока его не забрали. К нам он больше не вернулся.
Несмотря на многонациональность, конфликтов на этой почве не было. И всё же, русских и украинцев большинство.
Вечерами, когда в канцелярии кончался рабочий день, из камеры брали человек десять для переноски пишущих машинок в подвал, на случай бомбёжки. О людях никто не беспокоился. Надзиратели считали, что успеют перегнать нас в укрытие.
Мы с нетерпением ждали возвращения товарищей. Каждый из них приносил несколько окурков сигарет. Вся добыча ссыпалась в общую кучу. Иногда приносили свежую газету.
После ужина курили. Скручивалась толстая цигарка и по очереди дымили в открытое окно.
Потом читали газету. Верней, француз читал, поляк переводил на русский. Утром газету уносили на место.
Только через неделю сняли с меня наручники. За что я носил эти «украшения» – так и не понял. Произошло это в тот день, когда вызвали на допрос.
В кабинете сидели двое мужчин в штатском. Один пожилой с усами торчком и чисто выбритым лицом, с неизменной трубкой в зубах, но без дыма.
Другой, ещё сравнительно молодой, лет сорока, с фюрерскими усиками, что словно клякса под носом, а в галстуке нацистский значок. Редкие волосы на голове зачёсаны с пробором на одну сторону и закрывали лысину.
Я сразу понял, что это следователь. Нетрудно было догадаться, что старый – переводчик. От него пахло плохим немецким табаком и цветочным туалетным мылом.
Я поморщился. Запах этого мыла не переношу с детства. В носу защекотало, и я чихнул.
Следователь удивлённо уставился на арестанта, дозволившего вольность, но ничего не сказал. Он с минуту изучал меня, а потом грозным голосом начал допрос:
– Фамилия?
Это я понял без переводчика. Дальше он напустил на себя побольше строгости и приказал:
– Признавайся, откуда сбежал?
Переводчик, немного с акцентом, но переводил точно.
– От поезда отстал, когда везли в Германию!
Следователь, видно, не ожидал такого ответа, помолчал и уже тише продолжал допрос:
– Откуда ехал?
– Из Крыма.
– Из Крыма?! – изумился следователь. – Там же русские.
– Ну и что! – не сдавался я. – Нас последних вывезли из Севастополя в Констанцу пароходом. Потом долго везли поездом – вот и отстал на одной из станций.
От земляков, которые проходили через Штрасгоф, я знал обстановку в Крыму. «А если сказать, – торопливо подумалось, – что побывал в пересыльном лагере – сразу разоблачат. Нас же фотографировали».
– И куда ты направлялся? – через небольшую паузу спросил следователь.
– Домой!
– Слушай, ты! – повысил он голос. – Довольно сказки рассказывать. Говори, куда шёл!
– Домой! Куда ещё?
Следователь нахмурился, а через минуту улыбнулся. Видно, ему пришла нужная мысль.
– Устал? – участливо спросил он.
– Очень! – вздохнул я.
– Ну, что ж, – усмехнулся следователь. – Пока мы будем искать твой эшелон, поедешь на две недели в одно место. Отдохнёшь там и кое-что вспомнишь.
В камере я забился в угол на нарах и задумался. Мне не давали покоя слова: «отдохнёшь… вспомнишь…» По опыту было известно, что у фашистов можно отдохнуть только в могиле.
Ко мне подсел староста и участливо спросил:
– Били?
– Нет.
– А что ты, словно в воду опущенный?
– Видишь ли, фриц обещал послать меня на отдых. Будто я не понимаю, что он готовит мне пакость.
– Это точно! Они на пакости способны. А наручники забыли?
– Не знаю! Видно, такая команда была.
– И на том спасибо.
Староста пытался подбодрить советами. Я видел в нём доброго и участливого человека и подумал: «Всё же, везёт мне на хороших людей».
Но это не сняло с моего сердца тревоги. Староста вновь засел за шахматы, а обитатели: кто спал, а кто травил разные истории.
V ПОНЕДЕЛЬНИК – ДЕНЬ ТЯЖЁЛЫЙ
Наручники так и не надели. Кончалась неделя. Мне грешным делом казалось, что никуда меня не отправят. На допросы не вызывают, и вообще, всё происходило так, словно забыли обо мне. Но нет. Нужно знать гитлеровцев – они ничего не забывают.
И точно. В понедельник, сразу после завтрака, меня и ещё с десяток заключённых из других камер затолкали в «чёрный ворон» и повезли куда-то в горы.
Кузов в этой машине железный, с глухими стенками, и походит на духовку, только больших размеров. Он разделён на две неравные части решёткой с дверью.
Большая часть для арестантов, а меньшая для конвоира. Только выехали за ворота тюрьмы, он уселся на сидение, вытянул ноги и уперся головой в угол.
Спать ему ничто не мешало: ни качка, ни тряска на ухабах. Дрыхнул, как убитый. Только когда чересчур встряхнёт, сонно пялится на подопечных и вновь голова втискивается в угол, словно это её постоянное место.
Как уже говорил, – стенки фургона без окон, из толстого железа. На потолке два круглых отверстия с решёткой, для вентиляции. На дверях, в задней части кузова, узкое, словно амбразура, оконце. Я устроился так, чтобы что-то в него увидеть. Остальные узники ко всему равнодушны. Они тупо уставились на спящего охранника.
Пока ехали по городу, в оконце мелькали вторые этажи домов. Стараюсь запомнить что-нибудь.
За городом дорога получше. На повороте, где стоит старая расщепленная и опалённая молнией ель, а неподалёку вытекает родник и превращается в ручей, повернули на трассу.
Дорога проходит рядом с речкой. На левом, низком её берегу лежит, будто перина, сизый туман.
Правый берег зарос лозняком, ольшаником, которые тёмно-зелёной массой тянутся вдоль реки до самого горизонта.
На туманном берегу, на высоком холме возвышаются две старые корабельные сосны. Они как бы нависают над молочной постелью луга своими вершинами.
Солнце поднимается, а с ним и туман. Через минуту другую его как не было.
Остались сосны. Они величаво, словно солдаты по стойке смирно, стоят и смотрят с высоты векового возраста, как бы с усмешкой.
Дорога сделала поворот, и всё исчезло. Зато виден вдали посёлок, а над ним возвышается остроконечный шпиль кирхи.
Часа через два машина остановилась. До этого она блуждала по серпантину горной дороги.
Конвоир вскочил и, как очумелый, закрутил головой, приходя в себя. Он открыл дверь и выпрыгнул из кузова.
Пока открывалась и закрывалась дверь, я успел, словно сфотографировать колючую проволоку на высоких кольях и небольшой деревянный барак.
Дверь с грохотом захлопнулась. Опять наступил полумрак. Только в оконце пробивается косой луч солнца.
Сидим, как на иголках. Кузов нагревается, и чувствуешь себя жуком, которого сунули в горячую духовку и медленно поджаривают. Начинает кружиться голова, а рот раскрыт, хватаю горячий воздух, как рыба, выброшенная на берег, и думаю: «Что ж это творится? Зажарят живьём…»
Мои спутники ведут себя не лучшим образом. За дорогу ни я, ни они не проронили ни слова, словно каждый набрал в рот воды. Я тоже, непривыкший набиваться без надобности своей красотой, будто язык проглотил. Каждый был занят своими мыслями. Моё внимание целиком поглотила дорога. Всё ещё теплилась надежда на побег.
В тот момент, когда казалось – задохнусь, открылась дверь, в кузов ворвалась освежающая волна воздуха. Конвоир открыл решётку и сказал:
– Выходи!
Люди спрыгивали на землю и растерянно оглядывались. Они, видно, не совсем понимали, куда их привезли. А это был штрафлагерь. Вначале я и не догадывался, куда меня забросила судьба. Только потом стало известно.
С той минуты, когда я ступил на территорию лагеря, и начинался отсчёт моим четырнадцати дням.
Одному из наших, молодому парню, стало очень плохо. Он качнулся и упал. Я засуетился и нагнулся, чтобы помочь ему подняться. И тут же получил сильный удар сапогом в зад. Удар был неожиданным и словно футбольный мяч, я отлетел в сторону и растянулся, как лягушка на поверхности болота. Проворно вскочил на ноги, почёсывая ушибленное место, и пристроился к товарищам.
Мужчина в штатском пинками поднимал упавшего. Тюремный конвоир хмуро наблюдал за происходящим, но не вмешивался, а только буркнул:
– Труп!
Наша группа удивлённо повернула к нему головы. А я подумал: «Что он, ошалел? Парень-то жив…»
Как выяснится позже – он знал, что говорил. Но это выяснится, когда мы окунёмся с головой в лагерные порядки.
Ослабленный узник с большим трудом, под градом ударов, поднялся и, пошатываясь, стал в шеренгу.
Штатский посчитал нас, потом проверил по списку и только после этого отпустил нашего сопровождающего. «Чёрный ворон» фыркнул, забормотал мотором и, не торопясь, покатился по лесной дороге.
Наш новый хозяин проводил взглядом машину, поправил сбившуюся набок шляпу и пошёл к бараку.
Узники сошлись в кучу и смотрели вслед удаляющейся машине чуть ли не со слезами на глазах, словно их покинула родная мать. Как-никак, а в тюрьме так не обращались с заключёнными. Потом о чём-то зашептались. Я в этом не принимал участия, а внимательно изучал местность и, потирая зад, зло ворчал:
– Врезал, гад, чтоб тебя… – дальше следовали нецензурные слова.
Лагерь находился на большой поляне, обнесённой высокой оградой из проволоки. Строений почти никаких. Барак, сиротливо стоявший у ворот, да сколоченная из обзольных досок уборная человек на пятьдесят в стороне, рядом с ней длинный умывальник с множеством сосков. По другую сторону лагеря бетонный бункер с глиняным горбом и узкими подслеповатыми окошками у самой земли. С первого взгляда можно подумать, что это огромный дот с множеством амбразур. В центре – плац, вытоптанный сотнями ног. Вокруг густой еловый лес, который не доходит до ограды метров двадцать. «Да отсюда ничего не стоит убежать», – подумалось мне.
Впоследствии окажется, что сделать это не так просто.
Мои рассуждения прервал зычный голос штатского. Он позвал нас к бараку. Мы построились перед открытой дверью в шеренгу, в ожидании следующей команды.
Появился другой штатский, с машинкой в руках. По строю прошелестел шепоток:
– Стричь будут.
У меня после Штрасгофа только маленько отрос волос, и опять.
Как мы угадали, это был «парикмахер». Он указал первому в строю на чурбак, который стоял в стороне. Когда узник сел, началась стрижка наголо. Машинка оказалась тупой, парень дёрнулся и тут же получил удар по голове. Когда на землю упал последний клок волос, «парикмахер» достал из кармана другую машинку – поменьше. Её ещё называют «нулёвкой». Вот ею, словно бритвой, провёл на голове борозду.
Когда он остриг всех, оглядел наши головы, удовлетворённо прищёлкнул языком и ушёл.
Мы сгрудились в кучу и заговорили все сразу. Неожиданно даже для самого себя я предложил:
– Нужно бежать, братцы! Забор жидкий…
– Как же, убежишь, – отозвался кто-то из кучи, – когда пометили, как баранов.
– Это точно, – послышался другой голос. – Любой фриц глянет и сразу поймёт, откуда такой красавец.
Это мне и в голову не пришло. Я вздохнул и подумал: «Что ж теперь – ждать, пока этот фриц не угробит?»
Мы тогда не знали, что это только цвет, а ягоды ждут нас впереди.
Пока мы обсуждали, да гадали, что да как, немец стал выбрасывать из дверей нам под ноги старое тряпьё. Пока соображали, для чего это делается, он появился в дверях и приказал всем раздеваться догола.
Мы замялись и переглянулись, пожимая плечами. И тут на наши лысые головы посыпались удары резиновой палки с медным тросом внутри. Узники, в том числе и я, поспешили выполнить приказ.
Мы стояли, в чём мать родила, а немец ходил вдоль шеренги и усмехался, любуясь нашими рёбрами. Через минуту-другую приказал всем надеть тряпьё, валявшееся на земле. Это оказались старые костюмы, пережившие не одну смену узников.
Теперь мы подчинились, то и дело косясь на резиновую палку, её ещё называют гуммой.
Я поднял первые попавшиеся штаны и торопливо натянул их на себя, а потом – пиджак. Одежда отдавала потом и цвелью. На штанах лампасы, как у генерала, на пиджаке полосы вокруг талии, нарисованные красной масляной краской.
В довершение, каждому выдали ботинки-шуги на деревянной подошве и приказали связать свою одежду и сложить на полках в кладовой. После этого наш мучитель закрыл на ключ дверь и оставил нас в покое.
Ошарашенные всем этим, мы забыли даже о еде. Устроились в холодке и были довольны тем, что нас не трогали.
– Так куда мы попали, братцы? – задал глупый вопрос один узник.
– Спроси чего-нибудь полегче, – отозвался другой.
После стрижки, в одинаковой одежде, все стали на одно лицо. Когда смешаемся с остальной группой узников, вообще не отличишь, кто есть кто.
VI ИСПЫТАНИЕ СУДЬБОЙ
Наступил тёплый июньский вечер. Я смотрел на запад, где солнце клонилось к закату. Яркие краски меркли, постепенно уступая место вечерним сумеркам.
Где-то внутри барака запиликала губная гармошка, наигрывая весёлую мелодию. Мы сидели, насупившись, с голодными желудками. Нам было не до веселья. Неизвестность сковывала всё существо.
И вот, когда вершины наиболее высоких елей ещё розовели в отблесках вечерней зари, издали донёсся приглушённый грохот.
Я прислушался, и ничего не мог понять, хотя звуки были знакомы. А между тем, грохот нарастал и приближался. Через несколько минут навалился на нас, словно горный обвал. Мы повскакивали на ноги, глядя в сторону гула.
Вдруг из-за поворота лесной дороги выбежало чётким строем сотни две узников в такой же одежде, в какую одели нас.
«Чёрт бы побрал меня! – ругнулся я. – Как мог забыть этот грохот? Это же деревянные башмаки».
По обе стороны строя бежали эсэсовцы с автоматами на шее и с резиновыми дубинками в руках. Они что-то кричали и раздавали удары тем, кто ломал строй. Неожиданно арестанты перешли на шаг и загорланили «песню» на непонятном языке. Получалось так потому, что каждый выкрикивал слова на своём языке, а когда всё это смешивалось, выходило нечто невообразимое.
«Песня» оборвалась так же неожиданно, как и началась. Колонна остановилась. Уставшие люди едва дышали, с трудом переводя дыхание. Эсэсовцы не дали им опомниться. Последовала команда умываться. И тут же узников погнали резиновыми дубинками к умывальникам. Впрочем, эсэсовцев абсолютно не интересовала чистота заключённых. Им нужна была зацепка для издевательств.
«Это и нас ждёт, – с грустью подумалось. – Вот это отдых…»
Словно читая мои мысли, конвой обратил внимание, что кучка новичков стоит в стороне и не принимает участия «в лагерной жизни».
По команде старшего охранника на нас, как коршуны, набросились трое молодых и сильных солдат. Они с криком ударами гумм погнали нас в общую кучу. Я поспешил смешаться со старожилами. С той минуты я своих спутников потерял навсегда. Узнать их в лицо был не в состоянии.
Я делал, как все. Плеснул в лицо пригоршню нагретой на солнце воды и, получив попутно несколько ударов по спине, примкнул к толпе узников. Они жались друг к дружке, как перепуганное стадо животных, округлёнными глазами озираясь вокруг.
После «умывания» нас покормили жидкой баландой и ударами гумм загнали в бункер.
В бункере люди валились на голые доски нар в одежде, и тут же засыпали мёртвым сном. Я постоял в нерешительности с минуту, и полез на третий этаж нар. Устраивая поудобнее под голову ботинки вместо подушки, спросил у соседа:
– Что это за лагерь? Не переставая бьют, песни горланят?
– Штрафной! – едва слышно отозвался сосед. – Тише! Говорить запрещено.
– Молчать! – в подтверждение слов заключённого заорал эсэсовец, грохотавший коваными сапогами между нар.
Говоря, что с прибытием в лагерь начался отсчёт моих четырнадцати дней, я ошибался. В штрафлагере ночи не брались в расчёт.
Мой срок начинался с того момента, когда утром, как пуля, выскочил из бункера в сумеречный рассвет, вслед за другими, получив при этом порцию гумм по спине.
Здесь избиение продолжалось с рассвета и до тех пор, когда упадёшь на нары. А по рядам ходит «нянька» с резиновой палкой. Но успокаивать узников не требовалось. Стоило им добраться до нар, после шестнадцатичасового каторжного труда, камнем падали на них и тут же засыпали. Эсэсовец после этого запирал на замок входную дверь и уходил.
Первую ночь я долго лежал с открытыми глазами и думал, а со всех сторон слышались стоны и вскрики. Я вздыхал, осматривался.
Бункер метров тридцати длиной, шириной около десяти. На всё помещение тускло блестят три электролампочки. По дальним углам копошатся причудливые тени. У дверей параша и бачок с водой.
– Ты чего не спишь? – отрывает от созерцания нашего «дворца» сосед.
– Что-то не спится.
– Спи! Иначе не выдержишь завтра. А это верная смерть.
– Попробую.
Засыпая, подумал: «Это я усёк сразу, что эсэсовцы могут забить человека так, ради забавы…»
В этом убедился за время моего пребывания в штрафлагере и удивлялся: «Как это изверги не уставали от зверств?»
День первый начинался подъёмом часа в четыре утра, когда едва занимался рассвет. Окна-амбразуры светились бледными пятнами, говоря: день зародился.
Загремели на дверях запоры, и последовала команда выходить. Узники, как ошалелые, попрыгали с нар и сгрудились у прохода, создав пробку. И тут же заходили по головам и по спинам дубинки. Во двор вырывались уже избитые, и некоторые в кровь.
Во время оправки, умывания и завтрака гуммы не оставались без работы. Они угощали ударами почти каждого заключённого. Такая участь не миновала и меня. Спина огнём горела, но обращать на это внимание не давала зверская обстановка в лагере.
Едва покончили с баландой – команда строиться. Берём с собой манашки, и, под удары эсэсовцев, я примыкаю к строю. Пытаюсь втереться внутрь, но ряды сомкнуты, словно сжатые клещи. И всё же втиснулся.
Колонна штрафников вышла из лагеря в то время, когда на востоке из-за тучи выплыло красное, словно спелый помидор, солнце. Оно на глазах меняло окраску, поднимаясь выше, вначале стало жёлтым, а потом золотистым и изрядно припекало.
С полсотни шагов шли по грунтовой дороге. Она приглушала стук деревянных подошв. А выйдя на асфальт, подняли такой грохот, аж в ушах загудело, и в виски отдавало ударами «молота».
По команде «Бегом!» – побежали. Конвоиры, молодые, здоровые и сытые, бежали рядом, подгоняли гуммами арестантов. Минут через пятнадцать хорошего бега последовала команда «Стой!». Первые ряды замерли на месте, а задние наталкивались на них. Строй смешался. Грохот прекратился. Слышалось учащённое дыхание истощённых людей, да весёлый птичий щебет в лесной гуще. По верхушкам елей прошёлся лёгкий ветерок. Они заколыхались из стороны в сторону и недовольно зашелестели, словно жалуясь на нарушение покоя.
Эсэсовцы суетились, расставляя посты. На некоторое время оставили узников в покое. Я осмотрелся. Мы остановились на большой поляне, окружённой высокими деревьями и кустарником. В центре её громадная яма – карьер, из него добывают морскую гальку.
Смотрю на большую кучу добытого гравия и удивляюсь: «Откуда он?» Потом вспомнил, что в школе говорили, будто здесь в допотопные времена существовало море. В подробности не вдавался. Откуда мне знать было, море или нет. Меня интересовало, как убежать?
Внимательно огляделся и, до мелочей оценив обстановку, понял – это невозможно. Вокруг плотное кольцо бдительных охранников, а по углам четыре вышки.
Резкий звук свистка заставил меня вздрогнуть. Так оповещали начало рабочего дня. Строй рассыпался. Люди бежали к двум кучам лопат и кирок. Словно ошпаренные, хватали, что попалось под руку и исчезали в карьере.
На месте остались новички. Мы топтались, переступая с ноги на ногу, не зная, что делать. Эсэсовцы тут как тут. Налетели, как стервятники на добычу. Мне долго соображать не надо было, что к чему. Хватаю первую попавшуюся лопату и кубарем скатился на дно карьера. Скатываясь по откосам, не чувствовал ни ушибов, ни боли, хотя высота приличная: метров восемь – десять.
Разработка карьера велась этажами – ступенями. Гравий разной величины, от мелкого, с голубиное яйцо до булыжника с кулак. Его лопатами перебрасывали с выступа на выступ, на которых стоят люди. На поверхности гравий на тачках отвозили к большой куче, из которой постепенно выросла гора.
Штрафники работали, как автоматы. Лопаты так и мелькают туда-сюда. Попробуй замедлить темп или набрать полупустую лопату – надсмотрщик, который находится тут же, – всыплет пять ударов.
Не зная всего этого, я попытался хитрить, чтобы сберечь силы, но был бит. Задача эсэсовцев – ослабить силы узников и подавить человеческую волю, превратить их всех в скотов бессловесных.
Устал быстро. Сказалось неумение работать лопатой. На руках появились водянистые волдыри, а когда лопнули, образовались кровавые ранки. Держать лопату стало невыносимо больно. Но остановиться нельзя.
До обеда время тянулось мучительно долго. Порой казалось, что оно остановилось и испытывает меня на прочность. Тем временем стараюсь напрячь силы, чтобы не упасть. Мне это знакомо. Ещё дома видел, как упавших пленных добивали. Здесь то же самое – забьют.
– Не сдавайся, парень! – шепнул сосед справа.
На его доброту и поддержку словом не могу ответить. Сил не хватает ворочать языком.
В тот момент, когда казалось, что рухну на кучу, как бревно, выручил свисток. Штрафники перестали швырять гравий и стали, опираясь на держаки лопат. Я недоумённо глянул на соседа, который поддержал меня. Он понял меня:
– Баланду привезли!
Прозвучал ещё один свисток, арестанты ринулись из карьера. Поспешил и я за ними. На выходе встречали эсэсовцы и угощали гуммами.
От этого парня я узнал, что на обед отпускается полчаса. За это время нужно успеть получить в манашку варево и съесть.
Задача на первый взгляд не сложная. Но оказалось, и не простая. Баланду привозили в термосах, горячей горячего. Есть её невозможно, обжигает рот, словно огнём. Люди спешили, жадно глотали, обжигаясь.
Я смотрел и удивлялся, как это у них получается? Дую на баланду, а взять в руки манашку не могу. Не давали растёртые ладони.
Мой новый знакомый, парень лет двадцати, видя мои муки, передал свою посудину.
– Возьми! – предложил он. – Наливай в мою помаленьку и пей.
– Не могу, – простонал я. – Руки огнём пекут.
– Ладно. Держи холодную, а я буду подливать.
Так, с помощью товарища, прошёл мой первый обед и дал мне возможность отдохнуть. Работая, я не умел экономить силы. Сосед обратил на это внимание и посоветовал держать лопату ровней и не кидать через руку. Это помогло, но ненадолго. Часа через два лопата казалась бревном, тяжёлым и толстым.
– Что с тобой? – спросил напарник, который, казалось, не знал усталости. Он бросал гравий, как заводной. Даже эсэсовец как-то остановился и наблюдал за его работой, хмыкнул и не тронул.
– Руки печёт! – отозвался я.
– Натёр? Потерпи. Скоро пересмена.
– Какая? – не понял я.
– Этих людоедов сменят старики-австрийцы, фольксштурм. По-нашему, ополченцы.
– Ну и что?
– Как что? Они только кричат, но не бьют.
– Это хорошо, – вздохнул я.
Во время пересмены, когда нас считали и пересчитывали, сосед велел:
– Покажи руки!
– Зачем? – удивился я.
– Лечить будем.
– Смотри, – безразлично протянул я ладони.
Он смотрел на мои красные кровавые мозоли и качал головой:
– Картина знакомая. Было и у меня такое. Лопнули волдыри, а теперь открылись раны. Ну-ка, мочись на руки!
– Зачем?!
– Это как лекарство. Вмиг заживёт.
– Если так… – Я последовал совету парня.
Только стоило моче попасть на раны, запекло так, что сердце зашлось. Я замахал руками и выл от боли. «Лекарь» усмехнулся:
– Терпи! Не жалей мочи.
– Кой её чёрт жалеет, – отозвался я, а боль стала отпускать.
– Давай ещё, – советовал парень, а сам рвал на полосы носовой платок.
После перевязки рукам стало легче.
– Тебя как звать? – спросил я.
– Николай. С Кубани я.
– А я Санька, из Крыма.
– Тю! Так мы с тобой соседи.
– Каким образом? – не понял я.
– С Темрюка я. Когда фрицы отступали – вывозили людей. Между прочим, через Керчь.
– Тогда точно, соседи. Из Керчи я. Видел, как кубанцев на болиндерах вывозили и в вагоны. Потом и нас выселили…
– Что, весь город?
– Поголовно!
– Мда-а-а! – буркнул Николай и задумался.
Эсэсовцы ушли. Старики-австрийцы дали нам с полчаса отдохнуть, а потом раздался свисток. За это время поговорили с Николаем.
Почувствовалась разница в обращении. Мы работали, но не так, как при эсэсовцах. Было терпимо. Вечером я опять помыл руки мочой. Постепенно ранки заживали, а на их месте за две недели образовались твёрдые мозоли.
Дни проходили за днями, а в моей голове творился кавардак. Память словно отшибло. Всё слилось в сплошной кошмар: дни на одно лицо. Зверства, побои, смерти, послабление у стариков.
Отбыв свой срок в штрафлагере, сколько ни напрягал память – не мог вспомнить события первых дней. Остались в памяти начало первого и конец четвёртого, а между ними провал. Всё остальное помнится чётко и ясно.
Вечером четвёртого дня увезли Николая. Он отбыл свой срок. Больше у меня не было никого в этом аду. Но я теперь знал, что выдержу. Случайный товарищ многому научил.
Хотя севастопольский дед говорил: «Ничего случайного не бывает».
VII ПОБЕГ ПОЛЯКА
День четвёртый прошёл, как и предыдущие, трудно и однообразно, в жестоких побоях. А вот конец дня врезался в память побегом узника-поляка. Молодого парня, который не покорился фашистам.
Вечером, когда мы возвращались в лагерь, многие видели, как парень нырнул в густой кустарник. Всех удивило, как это бдительные эсэсовцы прошляпили. Мне вспомнилось, как кто-то ночью, со скорбью в голосе проговорил:
– Лучше под пулю, чем забьют палками…
Мне показалось, что поляк сделал попытку умереть. По другому его действия не поддавались объяснению. Как бы там ни было, а побег удался.
Мы как всегда бежали и горланили «песню» – эсэсовцы ничего не подозревали.
Недостача обнаружилась после ужина. Нас пересчитали и пожали плечами. Вновь считали и били. От недостачи никуда не денешься. Охранники взвыли от ярости.
Почти до рассвета избивали всех по очереди и допытывались, – куда подевался поляк. Узники молча ложились на козлы и, как должное, принимали побои.
Нас было человек около трёхсот, и каждого избили, и не один раз. Уже глубокой ночью каратели выдохлись и загнали нас в бункер. Мы тоже не железные – тут же валились на нары.
Пятый день начался, когда на востоке чуть-чуть порозовело. Эсэсовцы, вялые и злые, придирались к каждому пустяку. Нас без завтрака погнали в карьер.
Весь день искали жертву, на которой можно было отыграться. И кандидат в покойники нашёлся. Им оказался молодой измождённый француз. Его истощённая фигура до того иссохла, что напоминала мумию.
Как только охранники заметили, что его костлявые руки едва удерживают лопату, они тут же занялись им. Стало ясно – бедняга обречён.
Спасла француза от неминуемой казни пересмена. Старики-австрийцы не трогали его. Только вздыхали и качали головами.
В распорядке дня произошло изменение. Отчаянный побег поляка заставил администрацию лагеря сократить рабочий день на час. Это многих спасло от смерти. Час каторжных работ много значил.
День шестой дал понять, что жить французу осталось совсем ничего. Это зависело от того, как будут усердствовать эсэсовцы.
Чувствовала ли приближающуюся кончину жертва, трудно сказать. Мы сами висели на волоске. Стало заметно, как бедняга цеплялся за жизнь изо всех сил. Видимо, так уж устроен человек…
Заступившие на смену эсэсовцы тут же занялись французом. Они так увлеклись, что перестали избивать других.
Несчастного гоняли до тех пор, пока он падал, и били гуммами, чтобы поднимался. Когда француз терял сознание, его обливали водой. На некоторое время жертву оставляли. Охранники не хотели убивать сразу, – им доставляло удовольствие видеть, как человек умирает в медленных муках.
Смотреть на это без содрогания нормальный человек не мог. Однажды у меня случилось помутнение в голове, и я чуть не бросился с лопатой на вооружённых до зубов извергов.
– Ну, гады, держитесь! – и сделал шаг.
Я не соображал, что делаю, но меня вовремя удержал сосед.
– Ты что?! – дёрнул он меня за полу пиджака. – За бунт всех шлёпнут. Терпи, казак.
– Тьфу ты, чёрт! – тряхнул я головой. – Надо же…
В тот день француз остался лежать на опушке леса до прихода стариков. После окончания работы его несли в лагерь.
Утром француз сам добрался до карьера. Австрийцы не трогали его. Он сидел на опушке, жалкий и отсутствующим взглядом смотрел в землю. В обед ничего не ел. Видно, сердце его предчувствовало недоброе.
Только заступили на смену эсэсовцы, и сразу занялись обречённым. Они пинками подняли жертву и заставили бежать. Он еле ковылял. Садисты гоготали, глядя на его неуклюжие движения.
Вечером его опять несли в лагерь.
День восьмой стал для француза последним. В карьер гнали его ударами гумм. Он падал, поднимался и опять ковылял, пошатываясь, а его били со зверским оскалом лица.
Я всё видел, скрипел зубами и запоминал. Не знаю, так уж устроена моя натура – в любых условиях видеть, что делается вокруг.
Мы давно работали, когда появился француз с эсэсовцем, который подгонял его.
На опушке леса узник упал и больше не поднялся. Его пинали коваными сапогами, – он не двигался.
– Живодёры! – буркнул я.
– Они его скоро прикончат, – отозвался сосед лет двадцатипяти.
– Видно, уже. Француз…
– Нет, ещё жив. Когда доконают его, тогда возьмутся за нас.
В тот день нас не трогали. Продолжали измываться над беднягой. Обливали его водой и опять избивали, и опять отливали…
Перед самой пересменой эсэсовцы накинули страдальцу на шею телефонный провод и подвесили на корявой низкорослой сосне.
– Теперь держись, – усмехнулся угрюмо сосед. – Они покажут нам кузькину мать.
После пересмены австрийцы приказали снять повешенного. Трудно сказать – повесили его живым, или уже мёртвым? В лагерь мертвеца несли по очереди.
Казалось, эсэсовцы забыли о нас, занимаясь французом. Но это не так. На следующую смену всё началось сначала. Нас били, истязали и выискивали следующего кандидата в покойники.
Я считал дни и не знал, выживу ли. Силы мои иссякали.
День двенадцатый взбудоражил жизнь лагеря. Предыдущие дни похожи одни на другой, как близнецы. Нас били, мы терпели и, как автоматы, кидали проклятущий гравий.
Я же знал, что здесь человек месяц не выдерживает. Осуждённые на такой срок – считай, приговорены к смерти. Редко кто выживал, а больше забивали гуммами.
Но этот день выдался необычным. После смены, эсэсовцы принялись за нас. Но часа через два неожиданно последовала команда кончать работу. Узники переглянулись и пожали плечами, а сосед буркнул:
– Что-то в лесу сдохло? Не иначе, эти сволочи придумали пакость.
– Хорошего, – отозвался другой узник, – от них ждать нечего, а на гадость они способны.
– Не пойму, – заговорил третий. – Неужели издевательства над людьми доставляют им удовольствие?
– Садисты! – заключил сосед.
Я бросил взгляд на солнце и определил время: было примерно, около шести вечера. Народ выбирался на поверхность, и мне пришлось пулей вылететь, чтобы не быть избитым.
В лагерь вошли с привычным стуком деревянных подошв и с воем, который называли песней. Плац пустынный. Нигде ни души. Только в бараке через окна видны люди.
Нас построили перед умывальником. Удивляло, что всё это время нас не трогали. Один узник, стоявший слева, предположил:
– Раз эти изверги не обращают внимания на нас, значит, силы берегут для чего-то.
И он не ошибся. По рядам прошуршала новость: «Поймали поляка!»
«Теперь понятна их суета», – подумалось.
Узники с напряжением ждали, что будет дальше. Сердце сжималось в комок от жалости к обречённому. Все понимали – живому из лап эсэсовцев ему не вырваться.
Из карцера вывели избитого в кровь человека. Лицо его напоминало сплошной фиолетовый кровоподтёк, одежда в ржавых пятнах. Это мне было знакомо. Такие пятна я видел на гимнастёрках раненых солдат.
Но глаза… Они по-прежнему искрились злобой и ненавистью к мучителям. Стоило же ему перевести взгляд на товарищей по несчастью, как глаза его тускнели и наполнялись грустью, в которой таилась жажда жизни. Однако надежды на это у него не было. Он понимал это, и через силу улыбался нам.
По рядам прошуршало, что это не поляк. И в самом деле, в этом избитом в кровь человеке трудно узнать, кто он. Поляк ли это, который сбежал, или подсунули кого-то другого?
Эсэсовцы стояли отдельным строем. Ждали коменданта. И вот он вышел из барака, разодетый, как на праздник. В чёрной новой форме с красной повязкой на рукаве, где в белом круге чернела, будто спрут, свастика.
Комендант, ещё не старый, с удлинённой, похожей на кувшин, головой, на которой едва держалась форменная фуражка. Он через переводчика спросил у поляка, не желает ли тот покаяться? Беглец послал его в непотребное место. Офицер это понял и без посторонней помощи.
Он повернулся к строю узников и произнёс длинную речь, из которой мало кто что-нибудь понял. Переводчик старался, потел и сопел, сбивался, а комендант говорил и говорил. В заключение он сказал:
– Теперь смотрите, что может быть с каждым непокорным!
Повернулся к эсэсовцам и сделал знак начинать.
Три головореза сняли оружие и направились к обречённому. Один приказал поляку лечь на длинную скамейку, около которой высилась куча тонких дощечек от ящиков для гвоздей. Нам и в голову не приходило, что это и есть орудие пытки.
Двое стали по бокам от жертвы, а третий сложил по несколько дощечек и передал каждому из палачей.
Били поляка по пяткам. Били сосредоточенно, усердно и смеясь. Видимо, такую экзекуцию проводили не раз. Как мне потом объяснили, – от ударов по пяткам обрываются все внутренности, и после этого человек, так или иначе, не жилец.
Примерно минут через десять, остановились. Комендант повторил вопрос. Беглец и на этот раз не собирался просить пощады. Хотя, решись он на такой шаг, товарищи не осудили бы его. Право каждого распорядиться своей жизнью. Видно, он понял, что если не сейчас, так потом добью.
Били его снова. Били, пока не потерял сознание. Бросили в корыто с водой. Когда он застонал, тут же извлекли…
Так продолжалось до сумерек.
День тринадцатый – для меня предпоследний. Слабею на глазах. Сосед подбадривает меня:
– Держись, пацан!
Старался, держался, понимая, что эсэсовцы отвлеклись сначала на француза, а теперь на поляка, и это помогло мне. Они своими жизнями, в какой-то мере, спасли мою. Это я ощутил позже.
Для поляка это утро стало последним. Нам выдали баланду и, пока мы её ели, его вывели и стали избивать. Били сосредоточенно, с расстановкой, до тех пор, пока жертва перестала подавать признаки жизни.
«Убили…» – зашуршал шёпот по рядам.
Эсэсовцы ещё некоторое время кружили, как стервятники, над трупом. Как ни пытались оживить, – ничего не получилось. Тогда подвесили мёртвое тело за ноги на столбе. Только после этого узников погнали в карьер.
Ещё ни разу так поздно нас не гнали на работу. Солнце уже стояло высоко и припекало. Пот заливал глаза при беге.
До пересмены время превратилось в ад. Я изо всех сил держался, а сосед подбадривал:
– Так! Молодец! Утри нос этим паразитам!
Знал бы он, каких усилий мне это стоило. Когда пришли австрийцы, появилась надежда – выживу. Оставался один день, а с живодёрами только полдня. А тут сосед опять:
– Не расслабляйся! Напрягись весь, как пружина!
«Тебе хорошо, – подумал я, – командовать. Сам здоровый, как бык!»
И всё же, принимал его советы с благодарностью. Зная, что он желает мне добра.
День последний начался со стариками. Как мог, я экономил силы, зная: явятся садисты – нужно выстоять. Сосед посоветовал:
– Стань за мной. Я прикрою. Работай помаленьку.
– Тебе сколько осталось? – спросил я парня.
– Четыре дня.
Я ничего не сказал, но подумал: «Выдержит ли? – засомневался было, но тут же: – Выдержит! Парень крепкий!»
После пересмены эсэсовцы построили нас и всем всыпали по десять гумм. «За какие грехи? – мелькнула мысль, и вздохнул. – Ради забавы».
Напрягаю последние силы, – остались считанные часы до окончания срока, и обидно будет, если забьют.
Всё же выдержал. В лагерь бежал, пошатываясь, но бежал. А в спину сосед:
– Держись, Санька! Упадёшь – добьют!
В лагерном дворе стоял «чёрный ворон», а неподалёку сидела кучка «новобранцев». Меня аж затрясло от радости. Видно, не обрадовался бы так родной матери, как «ворону». Это было спасение.
К этому добавить нечего. Разве, что и в нечеловеческих условиях нашлись люди – хоть словом, а поддержали мальчишку. Судьба и на этот раз отнеслась благосклонно и вырвала из цепких лап смерти.
VIII СНОВА В САНКТ-ПЕЛЬТЕНЕ
Утром разбудил толчок в бок. Открываю глаза: светло, большое помещение, полно народа. Не могу понять, где нахожусь. Наконец сообразил, что в своей камере, откуда увозили в штрафлагерь. Вспомнилось, что в тюрьму приехали поздно ночью.
– Эй, парень, поднимайся! – Послышался знакомый голос старосты. – Уборку пора делать.
Я лежал прямо на полу. На нары взбираться ночью не хватило сил.
Кое-как поднялся с пола и сел на край нар. Староста всмотрелся в меня и воскликнул:
– Братва! Смотрите, что они сделали с пацаном!
Меня окружили и разглядывали, как какой-то экспонат. Я тоже всматривался в лица, но знакомых, кроме старосты, не находил.
– Это ты, Санька? – продолжал староста.
– А что, трудно узнать? – грустно усмехнулся я.
– Да-а! – вздохнул он. – Заездили тебя фрицы за две недели.
– Спать хочу. Устал очень, – отозвался я и полез на нары, занимая своё место.
– Ты куда? – запротестовал один из узников. – Это моё место!
Я не стал вступать в разговор. Сил на это не было. Уже сквозь сон слышал голос старосты:
– Это его место. Он там спал до тебя.
И я упал в какое-то ущелье. Летел и летел, а дна так и не достал.
В обед меня разбудил стук мисок и громкий говор. Некоторое время наблюдал, как староста орудовал черпаком, разливая из термоса по мискам зелёное варево из шпината и брюквы.
Я потянулся, поёрзал на нарах и сел в углу. Никто не обратил на меня внимания. Один только староста глянул в мою сторону:
– А-а, проснулся, курортник! Сейчас кормить буду тебя!
Мне передали полную миску и пайку хлеба. С баландой управился мигом. Староста ещё не раздал всем, а я уже облизывал ложку и косился на дно термоса, где осталось немного зелёной гущи.
– Ну, ты и даёшь! – усмехнулся он, и вылил мне в миску остаток.
Набил я свой желудок до отказа. От удара рукой по животу, он гудел, словно тугой барабан.
Меня снова потянуло спать. Баланда показалась такой вкусной, что, засыпая, долго ещё причмокивал губами.
Проснулся часа через два. В камере что-то обсуждали. Узники заметили, что я не сплю, и умолкли. Только староста, словно старик, покряхтел и подсел ко мне:
– Слушай, Санька! Ты чего молчишь? Языка лишили тебя? Скоро сутки, как ты в камере. Люди интересуются, где тебя так заездили?
– Язык у меня на месте. Просто устал сильно. Сейчас отоспался.
И я рассказал обо всём, что пришлось пережить. Вокруг сидели и стояли молодые парни, слушали, хотя не всё понимали. Староста переводил мой рассказ на немецкий. В разговорах время прошло незаметно.
В камере около сорока человек разных национальностей, из европейских стран. Понятно, и воспитание, и отношение к ближнему у всех разное. Когда я поведал им о своём пребывании в штрафлагере, и рассказал, как замучили француза и поляка, все гневно сжимали кулаки и бормотали проклятья, каждый на своём языке.
Утром, во время раздачи хлеба и кофе из желудей, староста расстелил на нарах газету и сказал:
– Начинаем!
Все обитатели камеры отламывали от своей пайки кусочки и клали на газету. Положил свою долю и я. От такой малости не наешься, а не положить нельзя – уважать перестанут. Староста заметил это и улыбнулся:
– Молодец! Не отстаёшь от товарищей. Но напрасно старался!
– Почему?! – удивился я.
– Арифметика простая. Всё это люди собрали для тебя!
– Чи-и-во-о-о?! Да как можно отрывать у голодного кусок?! Мне и в глотку не полезет!
– Ты брось такие штучки! – насупился староста. – Ты совсем ослаб.
– Да что я за цаца! Не помру!
В камере поднялся гул. Каждый говорил что-то по-своему.
– Санька! – разозлился староста. – Ты слышишь? Не перечь народу!
– Да я чего… – пролепетал. – Неловко просто.
– Неловко штаны через голову надеть. Каждый отрывает от себя, чтобы помочь товарищу, а ты…
Проглотив подкативший к горлу комок, я тихо выговорил:
– Спасибо, братцы! Вовек не забуду!
Так продолжалось почти неделю. Однажды утром я взбунтовался:
– Всё! Хватит! Больше не возьму ни грамма! Чувствую себя нормально.
Староста посмотрел на меня таким взглядом, словно увидел впервые, и усмехнулся:
– Нормально! Сам усох, как сухарь…
Он хотел ещё что-то сказать, но в этот момент в камеру втолкнули новичка.
IX БУДНИ ТЮРЕМНЫЕ
В камеру ввалился, как-то боком, здоровенный мужик с мешком-котомкой в руках, чем-то набитым под завязку.
Узники насторожились. Обычно такие вещи отбирают, а здесь… Ещё всех удивило, что он был в шинели, а я подумал: «С ума сойти! В такую жару и в шинели?» Она выгорела до желтизны, и трудно было определить, какой армии. Можно только догадаться, что польской. Потому что на голове у человека сидела вздыбленная форменная фуражка польской армии. Её ещё называют «конфедераткой».
Новичок даже не глянул в нашу сторону и не поздоровался, словно мы пустое место. Он прошёл в свободный угол, отодвинул в сторону чурбак, который служил скамейкой, на полу постелил шинель, рядом опустил котомку, потом переложил её под голову и лёг. Некоторое время ёрзал, устраиваясь поудобней, сложил руки на груди, как покойник, а через мгновение раздался богатырский храп.
Мы переглянулись. Староста хмыкнул, не спеша, стащил с ноги башмак и запустил в него. Тот что-то недовольно пробормотал и повернулся лицом к стене. Храп прекратился.
Хотя новичок удивил своим поведением всех узников, у каждого сложилось своё мнение о нём. Я осуждал его за то, что он нас не считал за людей. И тут же пытался оправдать: всяко могло случиться с человеком. Но не заметить такую массу народа никак нельзя. И решил, что он просто невежа.
Начался завтрак. Староста раздавал хлеб. Одной порции не хватало. Принесли кофе в термосе и миски. Шум у двери разбудил новичка. Пришлось выяснять – почему не достаёт пайки? Оказалось, что прибывшего не поставили на довольствие.
Только хотели объявить сбор хлеба в пользу не получившего, как тот развязал мешок и вытащил огромную, кило на четыре, хлебину и кусок сала. Оно оказалось предварительно порезано на дольки.
Арестанты остолбенели и зачарованно следили за руками поляка, – это действительно оказался поляк. Каждый надеялся, что он отвалит по шматку сала и куску хлеба на человека. В камере наступила такая тишина, что было слышно, как жужжит за открытым окном муха.
Не тут-то было. Хозяин этого добра отломил горбушку хлеба, отделил малую толику сала, а остальное спрятал в мешок.
Стало понятно без слов, что здесь ничем не разживёмся. Затарахтели миски и громко заговорили узники. Староста наблюдал за жлобом, а когда тот спрятал хлеб, сало и зачавкал, едва слышно буркнул:
– М-мда-а!
Я вспомнил Ваську. Тот тоже так противно чавкал. Ещё знал, что староста не простит поляку этого. Нет, не за то, что не поделился едой. Это его добрая воля. А за то, что своим поведением оскорбил всех нас, делая вид, что мы пустое место, или просто посчитал быдлом, с которым не стоит разговаривать.
– Слушай, товарищ! Ты откуда такой? – спросил наш старший.
Узники насторожились, устремив взгляды на поляка. Тот перестал чавкать и набитым ртом промямлил на польско-немецком жаргоне:
– Гусь свинье не товарищ.
– Точно, свинья! – усмехнулся староста.
Новичок оскорбился и, брызгая слюной, затараторил:
– Да вы здесь все политические, а я порядочный человек, и сюда попал случайно. Да простит мине матка боска, – и закрестился большущей пятернёй, похожей на совок, которым набирают уголь.
– Жлоб! – сказал староста. Так сказал, будто поставил печать прокажённого на лоб.
Узники окончательно потеряли к поляку интерес. Каждый занялся своими делами: кто расставлял шахматы, кто допивал горький кофе, а кто укладывался досыпать.
Я тоже не исключение. После штрафлагеря никак не мог отоспаться. Спал и днём.
В полночь меня едва растолкали и сунули в руку горбушку хлеба и пару долек сала.
Не задумываясь, откуда привалило такое счастье, набросился на еду. Рвал зубами сало и кусал хлеб, подставляя к подбородку ладонь, чтобы ни одна крошка не упала.
Вся камера жевала. Только один поляк безмятежно спал, словно младенец, чмокая большущими губами.
Вспомнил я о нём, когда расправился с едой. Глянул сонно в угол, где спал новичок, и ахнул. Под головой у него чурбак, а рядом заметно похудевший мешок, и на нём его доля хлеба и сала.
«Быть концерту!» – усмехнулся я и блаженно вытянул ноги, засыпая.
Утром, когда прозвенел звонок подъёма, никто уже не спал, но с нар вставать не спешили. Ждали, когда проснётся жертва.
Все взоры обращены в угол, на спящего. Наконец, он зашевелился и сел. Потянулся, двигая длинными, как жерди, руками, и сладко зевнул. Кто-то хихикнул. Поляк вздрогнул и насторожился. Обвёл камеру пристальным взглядом и остановился на мешке, который напоминал полуспущенный воздушный шар. Он замер с поднятыми руками и открытым ртом. Не спеша, опустил руки и пощупал в изголовье, видно, надеясь найти там свои пожитки.
Нащупав чурбак, резко повернулся и, выпучив глаза, уставился на него. Тряхнул головой и наклонился ниже.
Узники, как по команде, сели на нарах, с интересом наблюдая, что будет дальше. Такое в камере случается нечасто.
– Кондрашка хватит, – усмехнулся староста.
Опомнившись, поляк схватил мешок, вскочил на ноги и заорал:
– А-а-а! Карау-у-у-ул!
Он стучал каблуками огромных сапог в дверь, нежно, словно ребёнка, прижимая к груди мешок. На шум прибежал надзиратель и загремел ключами.
– Что происходит? – напустился он на поляка.
Староста соскочил с нар и пожал плечами:
– Кто его знает? Орёт, как резаный!
– Ограбили! – орал нарушитель спокойствия.
Его увели. Только закрылась за ним дверь, как грянул дружный смех. Открылось в дверях оконце, надзиратель усмехнулся и показал кулак. Он всё понял.
Во время уборки, когда сидели на нарах, подобрав под себя ноги, староста, как бы между прочим, изрёк:
– На всю жизнь не запасёшься, а уважение людей потеряешь. Так-то!
Все поняли, о ком речь, но о нём вскоре забыли, будто его и не было. Только я как-то вспомнил и подумал: «Такой верзила, а ума кот наплакал! Неужели не понял, что в таких условиях в одиночку не выживешь? Ничего, жизнь обкатает. Случайно, – как он сказал, – сюда не попадают…»
Часто вспоминаю Эдема, как он делился со мной, как я не пожалел коверкотовых штанов, как обманывали доверчивых людей. Вспомнились и слова деда, который делил добычу:
«Да простит нас Бог, – говорил он и крестился, – и люди за обман. Мы не ради наживы делаем это, а чтобы поддержать слабых…»