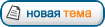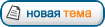ГЛАВА ВТОРАЯ.
1.ЭВАКУАЦИЯ.
Что происходило в Совете и в городе, мы не знали. Дома появлялись редко. Как правило, Юрия не заставали, а больше ночевали в деревне. Не очень приятно ходить по непролазной грязи.
Однажды пришли на воскресенье помыться и сменить белье и застали брата. Меня удивил его возбужденный вид, и я спросил:
– Что стряслось, что у тебя праздничное лицо?
– В Крыму создали республику «Тавриду». Теперь немцы не полезут на нас…
– Немцы?! – удивился Дыденко. – Это еще с какой радости?
– Говорят, – продолжал брат, – будто украинские националисты пустили немцев на Украину.
– Как же так? – продолжал удивляться Максим. – За что же мы проливали кровь?
– Самостийники, – Юрий хмыкнул, – отдадут Украину кому хочешь, только бы не с Россией. Они люто ненавидят все русское…
– Мы же одной крови, – удивлялся названный брат, – как можно?
– Это баламутят не настоящие украинцы, а польские переродки. Они и сами не знают, кто они: и не поляки, и не русские. Это продолжается со времен Богдана Хмельницкого. Теперь очередь за татарами…
– А татары что? – не понял я.
– Они метят отдать Крым туркам…
– Ну и дела! – покачал я головой.
Мы помылись, переоделись и пошли в деревню выполнять наложенную на нас обязанность. Я стал замечать, что наши ученики как-то изменились. Вроде бы стали пугливыми. Озираются без причины. Собираются на перекурах в кучки и шепчутся. Я оглянулся на Максима:
– Как по твоему, что происходит?
– Кто его знает? Спроси!
– Братцы! – решился я. – Что стряслось? Вас словно кто-то напугал?
Наши бойцы переглянулись и вытолкнули вперед небольшого замызганного мужичка в дранном кожушке и в постолах*
(* Постолы: обувь, похожая на лапти, только из телячьей кожи.). Я глянул на свои сапоги, на каждом из которых висело по пуду вязкого глинозема, и подумал:
«Мужик прав. В постолах легче топтать грязь…»
Он помялся и едва слышно промямлил:
– Эть германцы…
– Что ты бормочешь? – перебил его Максим. – Говори внятно!
– Дык, говорят, немцы у Перекопа…
– Ка-а-а-ак? – удивились мы в один голос.
– Не знаю! – пожал плечами парламентер. – Говорят!
Мы переглянулись. Максим вздохнул, давая мне понять, что ничего не соображает. Я подумал и сказал:
– Вот что, братцы. До выяснения обстоятельств разойдитесь по домам, а мы в город на разведку.
Народ, казалось, только этого и ждал, тут же рассыпался по степи, направляясь, каждый к своему жилью.
Дома Юрия не оказалось и мы направились в Совет, чтобы выяснить обстановку. Нас удивило, что на улицах много военных и беженцев на подводах и машинах.
– Что происходит? – спросил у меня Дыденко.
– Я знаю так же, как и ты, – буркнул недовольно.
Юрия мы встретили в коридоре Совета. Он шел широким шагом, чем-то озабоченный. Прошел бы мимо, если бы я не окликнул его:
– Ты чего, как в воду опущенный?
– А-а, это вы? – глянул на нас Юрий.
– Это правда, что немцы у Перекопа? – с тревогой в голосе спросил Дыденко.
– Правда, – вздохнул брат.
– Как же так? – возмутился Максим и посмотрел на меня так, словно я в этом виноват. – У нас же с ними мирный договор?
– Так то с Россией, – пояснил Юрий, – а Украина отделилась.
– Как отделилась? Но Крым российский? – не сдавались мы.
– Вот потому и топчутся немцы у Перекопа…
– Ну, и что теперь? – спросил я.
– Самостийники обскакали татар и отдали Крым немцам, но они не решаются первыми ступить на нашу землю.
– Может брешут? – отозвался названный брат. – Как это так – пустить врага…
– Для националистов, – вставил подошедший председатель Совета, – нет ничего святого. Им все равно, кому продать страну, абы власть иметь…
Председатель стоял перед нами во всем матросском, опутанный пулеметной лентой и маузером на боку, бескозырка набекрень, вид воинственный.
«Никак в поход собрался?» – предположил я, а вслух спросил:
– Воевать, что ли собираетесь?
– Вынуждают, но вы продолжайте учить народ. Пригодится.
Юрий и председатель ушли. Мы потолкались из угла в угол и ушли. На Широком молу грузились на пароходы военные и гражданские с имуществом, подводами и машинами.
– Как думаешь? – спросил Максим, – город будут защищать?
– Вряд ли! Если бы думали, не уходили бы.
– Ты прав! – согласился друг. – И, тем не менее, нужно выполнять задание.
– Завтра вернемся в деревню, а сейчас домой, – предложил я.
На другой день мы пошли в кошару. Наш отряд не собрался. Мы потоптались и вернулись в город. Улицы пустынны, в Совете никого.
– Что будем делать? – спросил я у Максима.
– Не знаю, Филя! Время покажет. Но оружие надо спрятать.
– Это само собой, – согласился я.
Вскоре прошел слух, будто в Крым вступили гайдамаки, а за ними немцы.
– Кто такие гайдамаки? – поинтересовался Дыденко.
– Черт их знает! – пожал я плечами. – Говорят, будто самостийные вояки.
– Набить бы им хорошо морду, чтобы знали свое место, да за ними сила, – вздохнул названный брат.
Так мы остались у разбитого корыта, не зная, чем заняться. Нудились по двору, выискивая работу. В городе зашевелилась контрреволюция, готовя хлеб-соль для «освободителей».
Слякотным апрельским утром в Керчь вошли немецкие войска. Перед этим днем прошел теплый весенний ливень. Сразу дороги и немощеные улицы раскисли - грязь по колено. Первой ступила на городские улицы конница. На толстозадых лошадях восседают, как каменные бабы на кургане, солдаты, обвешенные оружием. За спиной винтовка, на боку – палаш, за поясом гранаты с длинными деревянными ручками.
Колонны кавалеристов тесно жмутся друг к дружке, словно опасаясь нападения со стороны «туземцев». Лица у солдат напряжены, глаза настороженно косятся на городские дома. Сотни лошадиных копыт месят чужую грязь. Чавканье сливается в один неприятный звук.
Но вот в насыщенном влагой воздухе послышалось цоканье подков. Так на керченскую мостовую ступили лошади завоевателей. Следом потянулись нескончаемые обозы. Поездами спешили начальники и пехота, словно боясь опоздать на дележку трофеев. От вокзала побежали фыркающие черным дымом автомобили с открытым верхом. В них сидели чины в касках с остроконечными шишаками на них, а по брусчатке уже грохотала коваными сапогами пехота…
Словно тараканы из щелей, повылазили на свет божий эсеры, меньшевики, кадеты и прочая контра. Они встречали оккупантов с хлебом-солью, как освободителей, и были готовы служить им верой и правдой за избавление от «красной заразы».
А колонны, батальон за батальоном, идут по городским улицам. Вдруг на колокольне городского собора загремели колокола: «Длонь, дон, длын, дон…»
Бабка Анастасия, плюясь и крестясь, упала на колени перед образами, и, отбивая поклоны, спрашивала Всевышнего:
– Боше милоштивый, как Ты рашрешаешь трешвонить по антихристу?..
Ответа, конечно, не было, а колокола заливаются на все голоса, будоража горожан. Что отрадно – другие церкви не поддержали собор…
Наутро вышла меньшевистская газета «Волна». Она захлебывалась от восторга и похвал «освободителям» за восстановленный порядок…
Однажды Дыденко курил и читал «Волну». Вдруг он из рыжего превратился в пунцового, смял газету в кулак и бросил в угол.
– Христопродавцы! – процедил сквозь зубы. – Вашу мать! Как у них хватает совести смотреть людям в глаза?
– Ты о чем? – удивился я и поднял скомканную газету.
– Да вот, пишут…
– Где ты ее взял? – перебил я его.
– Был на базаре. Махорку покупал, а тут пацаны с газетами. Ну, я и взял на раскурку…
Я разгладил «Волну», стал смотреть ее и наткнулся на интересную заметку. Вот слушай, сказал я другу:
«…Присоединение Крыма имело бы то значение для Украинской Державы, что она была бы обеспечена продуктами первой необходимости, как соль, табак, вино, фрукты…»
– Это что, хозяева нашлись? – изумился Максим. – Дальше что?
– Дальше у тебя в зубах, а начало давно выкурил.
– Ну и черт их бери! – усмехнулся друг. – Все они получат по первое число. Дай только срок…
– Дай Бог! – вздохнул я. – Душа разрывается от такого предательства. Глумятся над солдатскими чувствами. Сколько лет кормили вшей в окопах, чтобы не пустить этого самого немца, а они пожалуйста – с хлебом-солью. Зла не хватает…
– Они и отца родного продадут, – продолжал Максим, – если этим насолят большевикам и России…
– Их бы на веревку, – усмехнулся я, – гадов, и в море, а чтобы не выплыли – камень побольше привязать…
– И думаешь поможет? – усмехнулся Дыденко. – Да эта зараза не умирает – на смену полезет другая сволочь. Одной Крыма хочется, а другой власти…
– Ну конец должен же быть? – продолжал я.
– Будет конец! – заверил меня названный брат. Он твердо верил, что революция победит. – Вся беда в том, что русские долго запрягают. Но когда запрягут – держись. Всем мало места будет…
Я ничего на это не ответил, но подумал:
«Дошли бы твои слова до Бога...»
Подошел сенокос. Трава уродилась высокой и густой. Косили сено я и Максим. Иногда брали с собой Марию Ивановну ворошить его. Названный брат махал косой и ворчал:
– Ну и тяжелая трава.
Однажды я спросил у него:
– Как думаешь, Максим, где подевались наши?
– Кто их знает! Были бы живы – объявились бы.
– Считаешь, погибли?
– Да нет. Все не могли. Кто-то да остался. Сейчас пробраться в Керчь… сам знаешь.
– Вообще да! – согласился я.
Когда перевезли сено домой, отец осмотрел скирду и сказал:
– Мажару можно продать.
– Зачем? – удивился я.
– К чему столько? Наш скот не подюжит…
– Пускай стоит! – не согласился я. – Если деньги нужны, мы с Максимом лучше на биржу будем ездить. Авось заработаем копейку.
– Смотрите сами, – согласился батя.
Мысль пришла мне правильная. Оккупация оккупацией, а жить надо. Стали выезжать на биржу. Биржа – это то место, где стоят дрогали, то есть грузовые возчики, и ждут клиента.
Когда мы сидели дома, не видели, как немцы грабят город. Забирали все: от пшеницы до металлолома. Мы безропотно смотрели на разбой оккупантов, но помешать было не в наших силах. Максим приезжал с работы злой и ворчал:
– Кто бы подсказал, как взять немца за горло?
Что я мог ответить? Был бы брат – это другое дело. Да и он без своих товарищей ничего не стоит.
Стояла сушь. Хлеба были уже скошены и заскирдованы. В раскаленном воздухе пахнет гарью. Третью неделю на небе ни облачка. Жгучий ветерок налетает порывами и утихает. Нет-нет закружит легкий вихрь и тут же опадет. После этого на зубах трещит песок.
Мы с Максимом устроились в тени от сарая и ремонтировали дроги. Вот в этот пышущий зноем полдень к нам во двор вошел странник: босой, с заросшей бородой-мочалкой, на голове копна давно не стриженных волос с проседью, одежда потрепана, а местами в дырах, через плечо сумка из мешковины. Он остановился посреди двора и улыбается. Мы глянули на него мельком и продолжали заниматься своим делом.
– Чего ему? – спросил Максим.
– Хлеба, наверное. Женщины разберутся, – отозвался я.
Из летней кухни выглянула Мария Ивановна и ахнула:
– О Господи, Юрий! На кого ты похожий?
– Маскировка, Мария Ивановна! – улыбнулся брат.
Мы бросили работу и окружили брата. Обошли вокруг, осматривая его. Пожали плечами и переглянулись.
– Ну ты и даешь, братуха! – усмехнулся я. – Сразу не признать.
Юрий перешел в тень и недовольно проговорил:
– Мария Ивановна признала. Значит плохо маскировался…
– Зачем тебе вообще это понадобилось? – поинтересовался я.
– А что оставалось делать? Всюду патрули, конные разъезды. Эта сумка вроде пропуска. На нищего никакого внимания, да и подадут на пропитание.
– Ты что один вернулся? – спросил я.
– Нет! Несколько человек, но пробирались в одиночку.
– Это и все, что осталось…
– Остальные воюют. Нас прислали создавать подполье…
– Максим, – усмехнулся я, – на днях сожалел, что тебя нет.
– Что так?
– Немцам гузно хотелось бы намазать скипидаром.
– Ну вы и молодцы, ребята. Считайте, что вы уже при деле.
– У нас времени нету, – отозвался Максим. -Мы работаем.
– А я надеялся на вас.
– Ничего, – усмехнулся Дыденко. – Найдем время. Мы работаем с Филей по очереди…
– Отпустите человека! – вмешалась Мария Ивановна. – Насели!
Из сарая вышла бабка Анастасия и, приложив козырьком ладонь ко лбу, смотрела на нас.
– Это што жа боший шеловек?
– Это я, мама, – отозвался брат.
– Ты, Юрка? – удивилась бабка. – Вот до шего довело бунтарштво.
Бабка больше ничего не сказала и ушла в дом. Мы тоже занялись своим делом. Юрия забрала Мария Ивановна. Глядя им вслед, я усмехнулся про себя:
«Сейчас она возьмется за него. Вся маскировка слетит с него, как шелуха…»
С приходом Юрия наш устоявшийся уклад жизни стал нарушаться. Теперь мы часто вечерами уединялись на сеновале. Брат рассказывал о своем путешествии домой: как нарвался на немецкий патруль, как едва не угодил в тюрьму, но выкрутился. Максим однажды не вытерпел и спросил:
– Ты скажи, что народ так и терпит оккупантов?
– Нет, почему! Есть люди, которые дают отпор завоевателям.
– А мы чего ждем? Растащили город…
– У нас пока не получается! – нахмурился Юрий. – Потеряны связи. Нет людей и оружия.
– Что, все ушли из города? – спросил я.
– Да нет! – вздохнул брат. – В том-то и дело, что не все. Ушли в подполье и связаться невозможно.
Так и проводили время на сене. Если Мария Ивановна не сгоняла нас с лежбища, там и спали.
Время шло. С приходом похолоданий на сеновале мы больше не собирались. Брат по утрам исчезал и возвращался перед комендантским часом. Молча ел, мне казалось, что делает он это машинально, а мысли блуждают далеко от тарелки, молча ложился спать. Долго ворочался и вздыхал. Наконец, затихал. Другой раз на вопросы отвечал невпопад. Не засмеется, не поговорит. Вроде бы и не Юрий вовсе – веселый и общительный. Мы старались в этот период не затрагивать его. Понимали, что у него что-то не клеится.
И только в октябре он «пришел в себя». Однажды ввалился в комнату в прекрасном настроении и, потирая руки, воскликнул:
– Радуйтесь, братцы! Создали, наконец, городской комитет партии большевиков! Теперь будем организовывать рабочие отряды. Нужны командиры и оружие…
– Ожил! – усмехнулся Максим.
– Чего? – не понял Юрий.
– Очухался, говорю!
– А ты как думал? Столько усилий положить. Теперь пойдет, как по маслу…
Слова Юрия насчет оружия мы приняли за приказ. На свой страх и риск взялись за дело. Ночами стали устраивать засады на одиночных вражеских солдат и офицеров. Убивать не убивали, а оружие забирали. Тем, кто сопротивлялся, били морды и отпускали.
За короткое время у нас уже было два десятка винтовок, боезапас к ним и десяток пистолетов. Когда Дыденко сказал об этом брату, тот удивился:
– Ну и молодцы! Когда успели?
– Надо не дрыхнуть ночами, – усмехнулся Максим.
– Да-а-а! – согласился Юрий. – Ты прав. Проснусь ночью и удивляюсь, где братья? Не по девкам случайно? Одним словом…
– Куда девать оружие? – перебил я брата.
– Где оно у вас?
– В надежном месте.
– Пускай пока будет там. Как наладится у нас – заберем.
Только мы настроились продолжать нападения, как немцы стали покидать город. Поговаривали будто в Германии революция. Мы обрадовались, что захватчики уходят. Напрасно радовались. На смену одним завоевателям пришли другие.
Еще не покинул нашу землю последний кайзеровский солдат, а в проливе, в редком тумане, словно призраки, замаячили англо-французские эскадры. Видя, что большевики активизируются, новые оккупанты не замедлили высадить своих солдат на берег. И опять по городу зашагали чужеземцы, а с Кубани переправились деникинские войска. Контрреволюция ликовала, гудели колокола. Теперь во всех церквях города.
– Шиношки, – спрашивала бабка Анастасия, – што это тришвонят? Никак прашник какой?
– Нет, мама! – отозвался я. – Просто белые войска встречают…
Бабка глянула на меня расширенными глазами, плюнула и ушла к детям, которые подняли шум, требуя гостинцев. Они понимали трезвон по-своему. Раз звонят – значит, праздник.
Успокоил мою ораву отец. Он только приехал с биржи. Бросил мне вожжи и поспешил к внукам. Я глядел ему вслед и усмехался. Когда распрягал лошадь, до меня донеслись отцовские слова:
– Что случилось, мои хорошие?
Дети затараторили наперебой. Дед посмотрел то на одного, то на другого и, наконец, сообразил, в чем дело.
– Ага! Гостинца хотите? Сейчас!
Он дал им по большому прянику и детвора успокоилась. Девчонка потянулась к деду. Он нежно держал ее на руках и что-то мурлыкал.
«Любит он детвору!» – подумалось мне.
Вот так и жили. В городе не хватало продуктов. Однажды поехали на двух подводах в деревни, закупили муки, зерна для лошадей. Выручило наше золото. Как будем жить дальше – время покажет. Но хорошего ожидать не приходилось.
2. УХОЖУ В СКАЛУ
Керченское правительство никакой роли в городе не играло, хотя хорохорилось и старалось угодить военным властям. Всем заправлял деникинский военный комендант. Он судил, расстреливал и редко миловал…
Эсеры и меньшевики составляли списки неблагонадежных и предоставляли их властям, а те контрразведке. Большевики, зная о подлости бывших коллег, решили создать партизанские отряды и подполье. Все, кому грозили аресты, ушли в скалы. (Так керчане называют каменоломни).
Начались аресты. Те, кто не успели уйти, были схвачены. Юрий и Дыденко подались к партизанам. Мне брат сказал:
– Ты, Филя, остаешься для связи. Тебя мало знают, да и кресты с погонами пригодятся…
– А ты говорил в огонь, – усмехнулся я.
– Не рассчитал. Но ты, кресты крестами, а смотри в оба. Если что – к нам в скалу.
– Понял! – отозвался я. – Учту!
– До скорого! – подал мне руку и Максим. – Смотри, не попадись!
– Не дурак. Сам понимаешь.
Прошло больше года, как мы с Дыденко дома. За это время произошло столько событий, что голова кругом. Кто только не претендовал на городской «престол»…
Для нас с Максимом это время не прошло напрасно. Мы сдружились и сроднились так, что на этом фоне Юрий казался не чужим, но и не совсем родным. Это могло только казаться. Юрия я любил, но малость от него отвык.
С Максимом мы расставались с сожалением и грустью. Он не отпускал мою руку, тискал ее, сжимая и приговаривая:
– Филя, брат, будь осторожен! У меня кроме тебя никого нет. Если что не одолеешь сам – позови. Вдвоем – сам знаешь…
– Добре, брат! Позову, если нужда будет!
Братья ушли. Я стоял в воротах, смотрел им вслед и вздыхал. Подошел отец, глянул на меня и удивился:
– Ты чего такой?
– Какой?
– Словно с креста снятый.
– Да вот, смотрю на братьев – ушли. Я остался, как сирота…
– Может быть так оно и лучше, – проговорил батька.
Я удивленно глянул на него, но промолчал. Он и так наговорил со своей «разговорчивостью» больше, чем обычно. Что меня и удивило.
Так я стал партизанским разведчиком. Собирать-то собирал сведения о деникинской армии – вот только передавать их было некому. Но не терял надежды, что однажды появится человек и передам ему всю собранную информацию.
Утром, выезжая на биржу, отец спрашивал:
– Ты, Филя, со мной?
– До базара, – отвечал я.
У Нового базара сходил и осматривался. Несмотря на патрули и шмыгающих туда-сюда шпионов, народу много. Патруль останавливал подозрительных, проверял документы. Кого отпускал, а были и такие, которых уводили в контрразведку. Я толкался в разноязычной толпе, прислушиваясь к разговорам. Что-то понимал, а что-то нет. Другой раз выуживал ценные сведения, но через день другой они теряли свою остроту…
Говорят, будто Великий Вавилон погиб только потому, что Бог смешал языки и люди перестали понимать друг друга. Нашему базару это не грозило. Над головами продавцов и покупателей плывет пар от дыхания и превращается в колючие снежинки. Они падают на лица спорщиков и тают, превращаясь в водяные капли, похожие на слезинки.
В морозном воздухе слышен приглушенный гул голосов. Слушаю и наблюдаю. Продавцы наседают на покупателей, а те отбиваются от напористых продавцов, называя свою цену. Наконец, ударили по рукам - сделка завершилась. Побродишь часа два среди люда, наслушаешься всякого, что и не знаешь, как быть с такой охапкой новостей…
В середине марта по базару, словно волна, прокатился слух, который всколыхнул и без того неспокойное море людское: деникинцы днями должны объявить мобилизацию в добровольческую армию. Я еще подумал тогда: «Как, мобилизация в добровольцы?..»
В городе началась паника. Мужики призывного возраста укрывались в деревнях, уходили в скалы к партизанам. Некоторые угодили, словно кур во щи, в солдаты. В основном это нерасторопный и пассивный народ. Были и такие, кто не знал о приказе. Взятые на учет уже не могли увильнуть от мобилизации.
Словно предчувствуя, к этому времени я сумел выправить бумагу на разрешение для работ в деревне до конца июня. И тут приказ, как гром с ясного неба.
Я не стал дожидаться, когда меня поволокут, как телка на убой.
«Нужно уходить», – решил я. Ночью ворочался с боку на бок. Мария Ивановна ворчала:
– Что тебе не спится? Чи постель неудобная? Так я перебивала перину и подушки…
Я молчал. Утром обнял жену и ласково, слегка запинаясь, сказал:
– Мне нужно уходить, голубка!
Голубка часто заморгала и жалобно пробормотала:
– Куда, Филичка?
– В скалу! К братьям.
– Не вытерпел, бисова душа! – взорвалась Мария Ивановна. – Доколе ты будешь воевать, дьявол неусидчивый? Совесть имей! Четвертым уже хожу…
– А как шлепнут, – перебил я ее, – тебе легче будет?
– Как так!? – опешила жена. – Что такое шлепнут?
– Поставят к стенке и все! – я щелкнул пальцами, имитируя выстрел.
– За что?
– Белые объявили мобилизацию, а я им служить не собираюсь…
Зная на опыте, что такие разговоры к хорошему не приводят, взвалил на плечи чувал с харчами и одеждой, приготовленный отцом, и поспешил исчезнуть, пока Мария Ивановна не пришла в себя.
Когда я уселся на дрогах, жена стояла в дверях и утирала передником слезы. Я сдвинул плечами, как бы говоря: «Ничего не поделаешь…» – и помахал ей рукой.
Отец подвез меня до окраины города. По дороге наставлял батьку, что говорить, если будут обо мне расспрашивать.
– Скажите – уехал в деревню, а в какую не сказал. Предупредите Марию Ивановну. Я ей ничего не говорил.
– А если будут требовать, где ты? – продолжал сомневаться батька. – С ними шутки плохи…
– Ничего! На этот случай я выправил бумагу у военного начальника.
Родитель обещал исполнить все в точности. Я облегченно вздохнул, взвалил на плечи чувал и пошел к деревне Аджимушкай.
Еще издали увидел солдат и конный разъезд.
«Ну, – подумалось, – не так просто пройти…»
Решил свернуть вправо к железной дороге, которая идет на Брянский завод, и затаиться. Внимательно осмотрелся. Все знакомо с детства. Когда отец строил новый сарай для скота, мы брали в здешних шахтах камень-бут. Он был дешевле. Но сарай построили. Только на черепицу не хватило денег. Покрыли соломой.
– Ничего, – успокаивал меня отец, – теплей будет…
Мне тогда исполнилось тринадцать, и чем будет накрыт сарай меня не волновало.
Я лежал в канаве и перелопачивал в памяти прошлое, а потом стал думать о детях, об отце. Неутомимый и бескорыстный труженик. На его плечах все мое семейство, а теперь еще мы – трое мужиков-нахлебников. Никогда не слыхал ни слова упрека или жалобы. Порой казалось, забота о семье ему в радость. Возможно потому, что очень любил внуков, ценил заботу Марии Ивановны, да и мы были ему небезразличны.
Мария Ивановна в своих руках держала все хозяйство, детей, его с бабкой. Старуха совсем ослабела и только ворчала, да на кухне мешала.
Вспомнил деда Ивана и подумал: «Почему старики больше любят внуков, чем своих детей?» Ответить на этот вопрос не смог. Однажды один человек сказал:
«Возможно потому, что старики видят во внуках свой прообраз…»
«Пожалуй, он прав. Юрий – копия дед».
И, сожалея, что за все время пребывания дома лишь однажды побывал на могиле деда, вздохнул:
«Памятник бы ему поставить… но какой? От креста отказался при жизни. Ничего. Кончится война, что-нибудь придумаю…»
День клонился к вечеру. В животе заурчало, а под ложечкой нудно засосало. Желудок напоминал, что не грех и перекусить. Я достал из мешка хлебину, отломал от нее горбушку, а от плахи сала отрезал складным ножом порядочный шмат и стал жевать.
Жевал и соображал, где бы незаметно пробраться к главному ходу. Солдаты менялись. Еще я заметил, что они не особенно бдительно охраняют подходы к скале.
«Если бы не мешок, – подумалось, – было бы все просто. А так - мешает. И без него нельзя. В нем жратвы батя наложил на роту».
3. СКАЛЯНЕ
В сумерках посты прошел без приключений, но «Маузер» держал наготове. В любую секунду мог нажать на спусковой крючок. Прежде чем спуститься в подземелье, осмотрелся. Стоило сунуться к входу, как неожиданный окрик:
– Стой! Пароль?
Меня словно обухом по голове от знакомого лязга затвора. «Сейчас грохнет», – мелькнуло в сознании. Хотел было спрятаться за выступ каменной глыбы, из-за которой только вышел, но глухой, как из могилы, голос пригвоздил к стенке:
– Не шевелись, бо пальну!
– Я те пальну, дура! – отозвался я.
– Он еще огрызается? Вот я тебя счас…
– Если успеешь. Не будь дураком, а позови начальника…
Но тут же понял, что просьба напрасная. Мой острый слух разведчика уловил едва слышные шаги. «Кто-то идет», – подумал, продолжая сжимать рукоять «Маузера».
Кто шел, мне не видно. Зато они различали каждое мое движение на чистом куске неба, которое заглядывало в проем входа. Это я понял потом, когда обжился в скале. Где находился часовой, не мог разобрать. Стрелять мог только на голос. Но этого не пришлось делать. Из-за выступа вышли два здоровенных партизана и направили на меня наганы.
«Эти тоже с бухты-барахты на меня, – усмехнулся я. – Да я вас, голубчики, давно изрешетил бы».
– Кто такой? – спросил один из них, видно старший.
– Борщёв я! Мне нужно в штаб!
Я нес ворох ценных сведений о белых войсках, о волнениях рабочих… Как разведчик знал, что необходимо доложить об этом начальству и чем быстрей, тем лучше. Но фамилия на партизан не произвела впечатления. Я тут же сообразил, что Юрий не всем известен. Старший окинул меня пристальным взглядом:
– Оружие есть?
– А вот! – показал «Маузер». – Безотказная штука… – помолчал и добавил. – Именной! За меткую стрельбу!
– Сдай и шагай за этим парнем! – он ткнул наганом в грудь рядом стоящего мужика. – Там разберутся.
Вели меня темными подземными переходами. Конвоир шел впереди широким шагом, словно по освещенному коридору, а я плелся за ним, как слепой, придерживаясь за стенку и спотыкаясь о булыжники. Он, змей, еще покрикивает:
– Не спотыкайся! Под ноги смотри и шире шаг!
– Что я кошка? – огрызнулся я и старался не отставать от него.
Меня поразило, как можно в такой темнотище что-то разглядеть под ногами, как советовал сопровождающий. Вскоре стали попадаться мерцающие желтым огоньком и нещадно чадящие керосиновые каганцы из бутылок. Делаются такие светильники просто: наливается в бутылку керосин и вставляется фитиль из шерстяной тряпки и все…
Встречные партизаны с интересом смотрели на нас, а один спросил:
– Кого поймали, Петро?
– Еще не знаем! Борщёв какой-то.
– Поймали! – хмыкнул я. – Да у вас в носу не кругло поймать такого, как я. Понял?
– Горячий, как я посмотрю! – усмехнулся конвоир. – И все же пошли быстрей. Начнутся спросы да расспросы, а что скажу о человеке, которого не знаю, а?
Петляя по лабиринту подземных галерей, Петро привел меня в большую комнату. Если можно так назвать брошенную выработку, в которой мог поместиться наш большой сарай и полдома. Вход в помещение завешен брезентом. Я осмотрелся. По углам спали на соломе люди. У каменной длинной тумбы, лежащей на боку, на которой стоял безбожно чадящий светильник, дремал матрос, положив голову на руки. Каганец освещал только матроса и метра два вокруг него, а дальше полумрак и особенно не рассмотришься. Как я сообразил – матрос дежурит. Петро толкнул его. Тот поднял голову и недовольно проворчал:
– Тебе чего?
– Вот документы!
– Чьи?
– А вот парня! – он кивнул в мою сторону.
Пока матрос крутил, вертел мои документы, мне подумалось:
«Ну и завел, вражья сила! Теперь мне одному ни в жизнь не выбраться из этой душегубки…»
– Юрий не твой брат? – перебил мои размышления матрос.
Я утвердительно кивнул. Он вернул мне документы и сказал:
– Располагайся.
Петро сунул мне в руки маузер и ушел. Вскоре вернулся с охапкой соломы и расстелил ее в углу.
– Ты прости, – извинился он, – если что не так. Знаешь, ходют всякие провокаторы и шпиёны. Я сам аджимушкайский. Знаю скалы, как свои пять пальцев. Утром сменюсь – покажу ходы и выходы.
– До-о-об-ре-е, – процедил я сквозь зубы все еще злясь.
Петро ушел. Матрос за каменной глыбой что-то записывал в толстую амбарную книгу. Я бросил на солому торбу и стал готовить себе ложе. Вдруг на мое плечо легла чья-то рука. Я резко обернулся и увидел брата.
– Юрка, братка! – воскликнул я обрадовано. – Ты откуда узнал, что я пришел?
– Сорока на хвосте принесла! – улыбнулся он закопченным лицом.
– А если без шуток?
– Все просто. Пришли ребята и говорят: «Там какого-то Борщёва повели – не твой ли родыч?» Ну, я бегом сюда.
Мы обнялись. По-мужски облапили друг друга. Почувствовав худобу брата, с сожалением проговорил:
– Худой ты, братка! Кожа да кости!
– Ничего, Филя! Были бы кости, а мясо нарастет.
Юрий сел на камень и задумался. Я шелестел соломой и косился на него. От зоркого глаза разведчика не ускользнула его озабоченность.
– Ты чего сумный? – поинтересовался я. – Что случилось? Может, голодный? Смотрю на вас – шкилеты вы все…
– А у тебя что-то есть пожевать?
– Да вот, – толкнул я ногой оклунок, – батька наложил, вишь какой лантух, еле дотащил.
– Так давай!
Я достал из мешка сало и хлеб, отрезал Юрию, матросу и себе. Неспеша жевал и не спускал глаз с брата. Он ел и о чем-то думал – временами забывал о еде. Я не утерпел:
– Что с тобой, Юра?
– Понимаешь, все думаю – раз тебя вынудили прийти к нам, значит наши дела дрянь.
– Вроде бы дела ничего, – возразил я. – Красные почти весь Крым взяли. Только у Владиславовки белые сумели остановить…
– Что ж тогда заставило тебя спуститься в скалу? – перебил меня брат. – Должно быть, что-то важное?
– Из-за пустяка не пришел бы, – подтвердил догадку Юрия. – Получил предупреждение от верных людей, что со дня на день белые объявят мобилизацию. Враги готовят мощный удар с помощью иностранцев. Красная Армия вряд ли выдержит…
– Ты забываешь, Филя, – усмехнулся брат, – что у нас есть оружие посильней…
– Эх ты, братка, – вздохнул я. – Отбился ты от жизни. Идеи хороши в мирное время, а сейчас давай патроны, гранаты, снаряды, наконец, солдат и еще уйму нужных вещей. Иначе победы не видать, как своих ушей. Понял?
– Оно-то так, а все же…
– Знаешь, – перебил я брата, – меня давно мучает мысль, а нельзя ли помочь нашим из белого тыла?
– А ты стратег, – улыбнулся брат. – У нас об этом говорят…
– Стратег, не стратег, а малость соображаю. Не зря с первого дня войны в окопах вшей кормил.
– И что ты предлагаешь? – спросил Юрий и внимательно посмотрел на меня.
– Я?! – взяло меня удивление. – А ничего! Здесь нахрапом не возьмешь. Нужна глубокая разведка.
– Разведка! – хмыкнул брат. – Да еще глубокая? Это нам не по зубам.
– Это почему?
– Кого посылать? Одни шкилеты закопченные. Разве тебя и Дыденко. Мы держим его в теле.
– Вы что, закармливаете его? – усмехнулся я.
– Что он – кабан? Просто порция у него больше.
– Везет же людям!
– Ну, баста! – поднимаясь на ноги, проговорил Юрий. – Спать! Завтра доложишь свои соображения штабу. Найду Максима – пришлю.
Брат ушел. Я сидел задумавшись. Мне не понравилось, как, по словам Юрия, легкомысленно здесь относятся к разведке. По опыту знал, что мой бывший эскадронный не начинал ни одно дело без свежих данных о противнике. Это обеспечивало успех…
Глянул на матроса у тумбы. Он положил голову на руки и дремал. Я вздохнул. Покопался в соломе и лег спать, подложив под голову оклунок с харчами.
4. ПАРТИЗАНСКИЕ БУДНИ
Спал беспокойно. Ворочался с боку на бок. Что-то давило и кололось. После домашней перины ложе, устроенное из клока соломы, не шло ни в какое сравнение. Потом удивлялся:
«Как быстро человек привыкает к удобствам и комфорту. Давно ли спал где попало и на чем придется?»
От холода выручил отцовский зипун. Он нахально навязал его мне и сказал:
– Бери! В скале холодно будет.
Укладываясь спать, я с благодарностью вспоминал батькины слова. Зипун толстый из чистой шерсти. Укутавшись в него, почувствовал тепло, словно на печке.
Снилось, будто воевал с белыми, словно богатырь с многоголовой гидрой. Одних уничтожу, а другие лезут и ползут, как тараканы из щелей. Офицер с кокардой на фуражке кричит: «Взять живым!» В конце концов, скрутили, связали и пытали. Сцепив зубы терпел. Выкручивали руки, но ни слова не сказал. Наконец, вскрикнул и проснулся. Оказалось, отлежал руку – она онемела.
Возможно, потому не сразу почувствовал, что меня трясут, а я как неживой. И вдруг в полутьме различил склоненную надо мной черную бородатую рожу. Только глаза да зубы блестят. Спросонья не мог сообразить, что это со мной происходит и где нахожусь? Закрыл глаза и подумал:
«Что это? Неужели беляки отправили меня в преисподнюю?»
И вдруг слышу знакомый голос:
– Мастер же ты, Филя, дрыхнуть! Я его трясу, как черт сухую грушу, а он хоть бы хны. Чмокает губами, словно дитё малое, и норовит повернуться на другой бок…
– Максим! – обрадовался я. – Черт рыжий!
– Но, но! Только не обзываться!
– Да я ж любя, друг ты мой!
– Верю! – хмыкнул Дыденко.
– Ну ты и напугал меня, чуть заикой не сделал…
– Чем же я тебя напугал? – удивился названный брат.
– Ты вначале в зеркало глянь, а потом спрашивай, сатана.
– Прости! – усмехнулся Дыденко. – Совсем забыл. Воды у нас почти нет, а каганцы чадят, как горно в кузне…
– Если горно хорошо раздуть, – перебил друга, – то оно не так уж и коптит. А ваши каганцы – это что-то невообразимое.
– Я когда узнал от Юрия, – продолжал Дыденко, – о твоем приходе – сразу примчался, не подумав, что своим видом перепугаю друга насмерть, – и заливисто засмеялся.
Перемена обстановки подействовала на меня удручающе. Мне было не до смеха. В таких условиях жить не приходилось. Даже в окопах в грязи и вшивости было привычно и естественно. Здесь же круглые сутки темень, воды нет, продукты внатяжку…
И все же приятно встретить друга после разлуки. Мы пожали руки друг другу и обнялись. Когда сели на мое ложе, Максим боднул головой на потолок:
– Как там?
– Ничего хорошего, – вздохнул я. – Контрразведка лютует. Народ мечется в поисках защиты.
– От кого? – не понял Дыденко.
– От этих самых белых. Мобилизацию должны объявить.
– Ишь, чего удумали!
– Смотрю на тебя, Максим, и не пойму: одет ты в тряпье, а где форма?
– На стенке висит, укутанная в клеенку. Чтобы, не дай бог, не закоптилась.
– Зачем? – удивился я.
– В разведку в чем ходить? А твоя где?
– В мешке, – и тут же вспомнил о еде. – Ты, случайно, есть не хочешь?
– Спрашиваешь у больного о здоровье. Случайно хочу!
Я отрезал Максиму шмат сала побольше, а себе поменьше. Вспомнив, что порция у него увеличена. Он это заметил и спросил:
– Чего такое неравенство?
– Я же из дома, а ты на шкилета похожий.
– Ты скажи мне, – перебил меня Дыденко, – как бабка реагировала, когда батька сало ложил в торбу?
– По-моему, она не видела. Ты лучше объясни, что будем делать с харчем? Я буду обжираться, а все впроголодь? Кусок в горле застрянет…
– Это хорошо, что ты так думаешь, брат! – сказал подошедший Юрий. – В штабе обсуждали это…
– И что решили? – поинтересовался Дыденко.
– Оставить вам на двоих. Чтобы выглядели, как люди.
– Но угостить имеем право? – спросил с удивлением я.
– Если начнете всех угощать, через полчаса твоя торба будет пуста.
– Ну, а ты не откажешься? Все же батька ложил и на твою долю?
– Если самую малость, – усмехнулся брат.
После трапезы Юрий ушел. Мы с Дыденко продолжали сидеть. Я осматривался вокруг. Матроса уже не было. На каменной тумбе стоял мерцающий каганец. Мне все больше не нравилась такая жизнь. Вздохнул и спросил:
– Ты как, привык к такой житухе?
– А что делать?
– Я, видно, долго не выдержу эту темень…
– Ничего, – хмыкнул Максим, – оботрешься.
– В разведку ходишь? – перевел я разговор на другое.
– Один раз. Трудно мне.
– Почему? – удивился я.
– Местности не знаю.
– А на фронте, что знал?
– Там другое. Там противник впереди, а здесь всюду.
– Взял бы кого из местных?
– Дали одного, так он только мешал. Вот если бы с тобой?
– Ничего! – успокоил друга. – Теперь перетаскаем всех беляков.
– Они нам ни к чему! Допросят и отпустят.
– Как ты думаешь, Максим, а если нас сцапают – отпустят?
– Скорей четвертуют! На куски порежут.
– Ну ты и хватил! – усмехнулся я. – Не посмеют! Мы Георгиевские кавалеры, а ты полный…
– Вот за это и четвертуют! Эх ты, Филя, простофиля. Усмотрят измену и казнят…
Откинулся угол брезента и в помещение вошел высокий мужчина в матросском бушлате с «Маузером» на боку. Дыденко шепнул: «Начальник разведки». Мы вскочили на ноги. Он окинул меня пытливым взглядом с ног до головы и спросил:
– Это ты, Борщёв?
– Так точно! – вытянулся по старой солдатской привычке.
– Докладывай, что знаешь!
Я подробно рассказал обо всем, что творится в городе. Особо остановился на усилении охраны подступов к каменоломням…
– Это мы знаем, – вздохнул начальник. – Из-за этого подвоз харчей прекратился и вообще…
– А пройти можно! Мы с Максимом через фронт шастали, как по бульвару, а здесь… – я помолчал и добавил. – Я прошел без затруднений.
– Наши ловятся! – вздохнул начальник разведки и машинально покрутил длинный ус.
– Опыта нет, – вмешался Дыденко, – потому и ловятся.
– Возможно! – согласился начальник. – Ладно, Борщёв, нужен будешь – позову.
Начальник ушел. Постепенно просыпались спящие и уходили.
– Куда они? – спросил у Максима.
– Получать рацион и воду. Пойдем и мы, – предложил Дыденко, – получим воду…
– Нужно подождать, – возразил я.
– Кого?
– Должен подойти один из местных. Он может пригодиться…
В помещение вошел Петро. Он был чем-то встревожен. Дыденко глянул на него и поинтересовался:
– Случилось что?
– Пока нет. Корабли начали обстреливать берег.
– Пристреливаются! – решил я.
Нас окружили партизаны и кто-то бросил реплику:
– Какой им матери нужно у нас? Если бы не Антанта, кадетам давно бы был каюк.
– И почему они пекутся о наших землях, как о собственных? – вмешался другой.
– А пекутся они, – проговорил третий партизан, – белые генералы обещали англичанам Крым и Кавказ.
– Ах вы, суки! – взорвался Дыденко. – Земли нашей захотели?
– Подавятся! – отозвался кто-то из затемненного угла. – Можем уступить за кладбищенской стеной. Ишь, пушками пугают…
Только вспомнили о пушках, как у входа в подземелье ахнул тяжелый корабельный снаряд. Мы насторожились. За ним второй, третий и посыпались, как горох из дырявого мешка.
Задрожали потолки и стали рушиться огромными плитами и кусками. Появились убитые и раненые. Слышались стоны и крики о помощи. Мы бросились спасать пострадавших и чуть сами не попали под огромный пласт. Послышался приказ уходить вглубь. С ранеными ушли подальше от входа. По дороге Максим спохватился:
– А харчи?
– Если уцелеют, – успокоил я его, – потом заберем…
5. ПОДГОТОВКА К РАЗВЕДКЕ
Так началась моя жизнь в подземелье. Белогвардейцы, видя, что мужчины укрываются от мобилизации в скалах, окружили их плотным кольцом. Всюду патрули и конные разъезды. Стоит неопытному партизану появиться на поверхности – он сразу попадал в руки карателей.
Наступала трудная пора для партизан. Не хватало воды и продуктов. Заканчивался и керосин. Без него воцарится непроглядная темень. Раньше все необходимое подвозили крестьяне. Теперь такой возможности не стало. С водой тоже появилась проблема после того, как белые взорвали наши запасы. К наружному колодцу подойти невозможно. Он все время под пулеметным обстрелом.
Однажды ночью я, Дыденко и Петро сняли пулеметчиков. Петро провел знакомыми ему тропами в тыл врагам. Когда наши натаскали воды в подземелье и сами напились от пуза, мы тихонько укатили пулеметы в подземелье. За удачную операцию нас похвалили. Эту весть принес нам Юрий. Петро вздохнул и спросил брата:
– А что начальство думает? Надо же что-то делать?
– В штабе, – отозвался Юрий, – что-то разрабатывают. Говорят, грандиозная операция.
– А разведка? – поинтересовался я. – Мне кажется, операция связана с выходом на поверхность?
– Видимо! – уклончиво ответил брат. – В городе есть люди, которые передают нужные сведения.
– Ох, смотрите! – вмешался Максим. – Наш командир эскадрона говорил: «Старые разведданные хуже предательства».
– Пошлите нас в город! – перебил я друга.
– Нет! Вы нужны для другого дела. Скоро узнаете.
Юрий знал, что говорил. Однажды меня и Максима вызвали в штаб. Начальник разведки сказал:
– Тебя, Борщёв, посылаем с особым заданием. У тебя, Дыденко, тоже будет поручение. А сопровождать вас будет наш, из местных.
– Кто такой? – поинтересовался Максим.
– Да вот он! – начальник показал на вошедших Юрия и Петра.
– Братуха?! – удивился я.
– Да нет! Петро пойдет с вами.
Мы критически смотрели на будущего напарника, словно видели его впервые. Юрий заметил это и стал защищать скалянина:
– Он, конечно, не военный разведчик, но кое-что выполнял. Местность знает, а это чего-то стоит…
– Парень он хороший, – отозвался Максим, – но мы о другом. У разведчиков неписаный закон: «Один за всех, все за одного. Сам погибай, а товарища выручай!» Понятно?
– А как же иначе! – оскорбился Петро. – Нам по-другому нельзя.
– Ладно! – вмешался начальник разведки. – Потом разберетесь. Тебя, Борщёв, посылаем в Катерлез с особым заданием…
– Что я буду там делать?
– Не спеши! У тебя там живет родня жены?
– Да, есть!
– Вот и хорошо. Ребята проводят тебя до монастыря и вернутся. На обратном пути должны захватить языка. На подготовку сутки. Вы двое свободны. Борщёв, останься, получишь инструкции…
Так Петро стал нашим помощником. Пока я пропадал в штабе, он обдумывал, как незаметно выбраться из скалы, а потом из деревни. Дыденко обмозговывал про себя всю операцию, а когда я вернулся - доложил:
– В общем, так. Ты, Филя, фельдфебель. Наденешь погоны и кресты. Кстати, документы взял?
– Как можно в это время без мандата?! – удивился я. – Другое дело они царские и Временного правительства. Вдруг проверят?
– Примем бой!
– Больно ты горяч, Максим!
– Почему?
– Нежелательно. Операция может провалиться.
– Значит так! – продолжал Дыденко, не слушая мои сомнения. – Я рядовой с одним крестом и винтовкой. Петро пленник. Ведем его в контрразведку. Это общая картина. Как ты смотришь, Филя?
– Будто ничего. А ты как думаешь, Петро?
Он лежал на соломе, жевал соломинку и внимательно слушал нас.
– Как будто получается. Только, как выйти из скалы и отмыть наши рожи...
– Думай! – перебил я его. – Ты местный, знаешь здесь все.
– Думаю. Но ничего подходящего не выходит. Правда есть один ход, но очень узкий…
– Показывай! – перебил я его. – Нужно посмотреть. Если подойдет, тогда будем отмываться.
– Я тоже так думаю! – согласился Дыденко.
– Ну что ж! – поднялся на ноги Петро. – Тогда за дело.
Он увел нас в боковые выработки. Здесь людей не было. Ходы низкие, узкие и все сужаются.
– Зачем в таких неудобствах резали камень? – спросил я.
– Здесь пласт крепкий. Этот камень идет на памятники и всякие поделки.
Петро вел нас и вел. Мы стали нагибаться. Максим проворчал:
– Так и на карачках поползем.
– Почти! – отозвался Петро. – Потерпите!
Мы прошли еще немного и остановились.
– Все! Пришли!
– Куда? – удивились мы.
– К лазу!
– Что-то не пойму! – отозвался Дыденко и огляделся.
– Эх вы, горожане! – усмехнулся Петро. – А вы осмотритесь. Авось что и увидите?
Я подумал: «Раз говорит, что-то должно быть?» – и тут увидел узкую щелку дневного света и заорал:
– Есть! Вижу!
– Кого, Филя? – удивился Максим и ошалело водил головой.
– Сейчас покажу, – усмехнулся Петро.
Он положил бутылку-каганец на тырсу так, чтобы керосин не вытекал, и стал отбрасывать камень-бут. Мы помогали ему, а я думал: «Идем на свет, как на маяк».
Вскоре добрались к узкому лазу. Дневной свет на миг ослепил нас. Мы, зажмурив глаза, смотрели в сторону. Так постепенно привыкли к резкому свету.
– Ну вот, – сказал Петро. – Теперь можно и пробовать.
– Чего пробовать, – усмехнулся Максим. – Оно и так видно – никто из нас не пролезет в него.
– Возможно! – согласился проводник. – Я в него лазил пацаном, а сейчас габариты не те. Ладно! – решил Петро. – Вы посидите, а я на минуту отлучусь.
Он ушел с каганцом. Мы сидели в темноте и смотрели на освещенный узкий туннель. Максим курил и что-то соображал. Я увидел его задумчивый профиль на фоне дневного света и усмехнулся: «Опять затевает аферу?»
На этот раз ошибся. Он был озабочен другой проблемой. Наконец он вздохнул и спросил:
– Как думаешь, Филя, пролезем в эту дырку?
– Если пообтесать острые углы – пролезем.
– Хорошо бы! На волю хочется. Подышать свободой…
– Еще надышишься, – успокоил друга.
Петра не было около часа, а может и больше. Пришел он с ломом, пилой и молотом.
– Заждались? – усмехнулся он. – Еле нашел инструмент. Резчики так спрятали, что днем с огнем не найдешь. Давайте пробовать.
– Всем сразу не получится, – подал голос Максим. – Ты, Петро, начинай, а мы сменим тебя.
К удивлению Петра мы быстро обкорнали торчащие камни, которые мешали. Проводник глянул на нас и выдохнул:
– Ну, с Богом! – и змеей уполз.
Когда он оказался на свободе, полезли и мы. Резкий дневной свет слепил нас. По совету Петра прикрыли глаза. Вскоре они привыкли к дневному свету. Первое, что мы увидели, наши закопченные лица. Они были в саже, словно мы кочегарили котлы.
– Нет, братцы, – усмехнулся я, – с такими рожами мы неминуемо угодим с помощью контры в преисподнюю. Нужно отмываться.
– Это потом. Сейчас посмотрим, как действует охрана и конные разъезды, – предложил Дыденко.
Мы огляделись. Из балки, куда мы выбрались, обзора было почти никакого. Не сговариваясь, взобрались на возвышенность и затаились в первой большой воронке. Расположились так, чтобы видеть всю округу. В мое поле зрения попала деревня Аджимушкай. Она пуста и почти разрушена. Корабельные снаряды не пощадили ее. Мне говорили, будто местные богатеи задолго до блокады каменоломен укатили на резвых лошадях со всем своим имуществом, даже вырывали оконные и дверные блоки. Создавалось впечатление, что их предупредили о будущих обстрелах.
Бедноте проще. У кого не было тягла, забирали детей, имущество, которое вмещалось в нескольких мешках, и уходили в скалу.
– Я думаю, – нарушил молчания Максим, – утром мы свободно уйдем. Часовые далеко, а разъездов не видно…
– Вряд ли, – не согласился Петро. – Открытое поле. За версту видно. Можно напороться на конных…
– И что предлагаешь? – спросил я.
– Нужно пробираться балками с оглядкой. На пару верст круга, зато надежно.
– За дорогу, – предупредил я, – ты отвечаешь, Петро. Обдумай…
– Тихо, братцы! – прервал разговор Максим. – Конные.
– Вот видишь, – прошептал проводник.
Мы присели в воронке и прислушались. Земля еще пахла жженым порохом, и щекотало в носу. Я едва сдержался, чтобы не чихнуть. Где-то неподалеку слышался цокот подков об оголенные каменные плиты. Мы легли на дно и лежали, пока разъезд не удалился. Сразу же после этого вернулись в шахты. Ход забросали камнем. Дыденко вздохнул и сказал:
– Ну вот. Не напрасно трудились. Теперь приблизительно знаем, как ведет себя конный патруль и где стоят посты. Нужно уходить до рассвета.
6. У МОНАСТЫРЯ
На поверхность выбрались задолго до рассвета. Было тихо и прохладно. Звезды ярко мерцали на чистом небе. Петро вывел нас за деревню, и в балке залегли. Слышался приглушенный цокот подков. Дальше в темноте идти было небезопасно. Можно нарваться на разъезд.
– Когда дальше пойдем? – спрашиваю у Петра.
– Развиднеется, сориентируемся и пойдем.
Восток стал бледнеть, а звезды гасли одна за другой, словно выключались электролампочки. Все, как в мирное время, только о войне напоминали блуждающие лучи прожекторов по проливу.
Я вспомнил, как нас отмывали перед уходом. Ребята шутили:
«Мойтесь с мылом, а иначе с вашими рожами прямой путь в контрразведку…»
Мы улыбались и старательно мылили лица. Товарищи сливали нам на руки воду, которой не хватает для питья, и облизывали сухие губы. Все понимали, что готовят нас для нужного дела.
В деревню Катерлез шел с удовольствием. Мария Ивановна родом из нее. Теперь у меня там полдеревни родственников: сваты, шурины, свояки, кумовья…
На Троицу съезжаются в деревню родичи со всей округи и пируют три дня. Страшно вспомнить, чего только не было на столах…
Светлело. Осмотрелся. Вдали силуэты всадников. Я вздохнул и опять задумался. Над проливом погасли прожектора. Зоря брызнула на небо всеми цветами радуги, и появилось солнце. Петро кивнул на светило и шепнул:
– Пора!
Я толкнул Максима:
– Пошли!
Дыденко не двигался. Он лежал навзничь и смотрел на показавшуюся из-за пролива темно-красную бляху светила. Петро глянул на него и усмехнулся:
– Солнца не видел?
– Представь, не видел. Давно не видел. Вы посмотрите на эту красотищу! Когда мы видим его каждый день – ничего не замечаем.
– Ладно! оборвал друга. – Раз выбрали меня командиром – подчиняйтесь! Пошли!
– Филя, – отозвался Максим, – еще мгновение блаженства, а там хоть к черту в пекло!
– С каких это пор ты стал таким чувствительным?
– Не знаю! Возможно, скала подействовала. Ладно! – вскочил он на ноги. – Веди, Петро!
– Так бы и давно, – хмыкнул я и поправил на боку «Маузер».
По степи шли балками и оврагами. Обошли деревню Булганак. Солнце поднимается все выше и выше. Начинает припекать наши спины. Я впереди, за мной Петро с руками назад, замыкает шествие Дыденко с винтовкой наперевес. Пока все хорошо. Только однажды из балки выскочил небольшой конный отряд, не обративший на нас внимания. Я облегченно вздохнул. На этот раз обошлось. Дальше шли с оглядкой. Нам нужно было выйти к высоким стенам женского Георгиевского монастыря, который находился на возвышенности перед деревней Катерлез. Еще издали увидели, как в утренних лучах солнца тускло поблескивали позолотой купола и кресты на монастырской церкви.
Я обратил внимание, что после деревни Булганак разъезды и дозоры не встречались. Подумав: «Нужно сократить дорогу», – я предложил:
– Давайте я пойду напрямую, а вы возвращайтесь.
– Нет уж! – возразил Максим. – Сказано до монастыря и баста. Отступать от приказа негоже.
– Большой круг, – не сдавался я.
– Зато безопасно. И языка там можно захватить, – вдруг объявил Дыденко.
– Да ну!? – удивился я.
– Вот тебе и ну! Сказывают, будто около этого дома, набитого под завязку бабами, толкутся мужики кому не лень.
– Ты так уверенно об этом заявляешь, словно сам побывал там?
– Будет тебе зубы скалить, нехристь! – засмеялся Дыденко. – Как можно нам, беспартийным большевикам, шляться где попало. Нет, Филя! Не был я там, но люди говорят – в монастыре сейчас настоящая бордель. Понял?
– Люди наговорят. Ты, Максим, все видишь, все знаешь, а я, как темный лес.
– Это оттого, Филя, что ты дома сидел, а я на людях и все мотаю на ус. Всякая мелочь, ты знаешь, может пригодиться.
– Это так! – согласился я.
Монастырь все ближе и ближе. И вот тропинка змейкой взбегает к нему. Я молча свернул на нее, за мной сопят товарищи. Солнце уже изрядно припекает наши спины, и мы упарились, взбираясь на возвышенность. Дыденко облюбовал место у стены и бросил свое большое тело на молодую траву.
«Скоро сенокос, – подумал я. – Кто косить будет?»
– Малость отдохнем, – проговорил Максим, протягивая ноги, – и разбежимся кто куда.
Я удивился, разглядывая его помятый вид, словно его жевали, а потом полуживого выплюнули.
– Ты устал? – удивился я.
– Да! Что-то хлипким стал, – буркнул названный брат и, закрывая глаза, прислонился головой к шершавому камню.
Таким Дыденко я не видел даже на фронте. «Ослабел», – подумалось.
– Это от сидения под скалой и голодухи, – отозвался Петро, словно прочитав мои мысли. Он вздохнул и уселся рядом с Максимом. – У меня тоже ноги дрожат.
Я усталости не чувствовал. В каменоломне жить мне пришлось почти ничего. Да харчи принес. Правда, их хватило ненадолго. Я вздохнул и сел рядом с друзьями. Внизу, в степи, зеленели озимые хлеба. «На вид неплохой должен быть урожай, – подумалось мне. – Скоро пшеница выбросит колос…»
Вздохнул и перевел взгляд на монастырские, свежевыкрашенные в зеленый цвет, ворота. Ворота массивные деревянные утыканы завитушками и крестиками. Отдельно калитка со створкой, похожая на форточку, которая открывается, чтобы глянуть кто пришел…
Курить будешь? – прервал мое размышление Петро и протянул Максиму кисет с табаком и бумагу.
– Давай! – отозвался он.
– Вы бы не курили! – посоветовал я. – И так слабые.
– Филя! – усмехнулся Дыденко. – От такой житухи только и радости – цигарка!
– Спасибо хоть не водка, – буркнул я.
Максим ловко свернул козью ножку, всыпал в нее табака и прикурил у Петра. С наслаждением затянулся несколько раз, выпуская изо рта дым, и вдруг насторожился.
– Тихо, братцы!
– Что случилось? – не понял я.
Зная по фронту острый слух и зоркий глаз друга, тоже прислушался.
– Где-то цокают подковы, – отозвался Максим.
Только через несколько минут, когда лошадь ступила на булыжную мостовую, ведущую к монастырским воротам, мы услыхали перестук подков. Ребята, как по команде, затушили самокрутки и ждали.
– Вы прячьтесь! – предложил я.
– Погодь, – шепнул Максим, – посмотрим, что и как?
Из-за скалы, которая прикрывала дорогу, появилась лошадиная морда, а потом пролетка с открытым верхом. На заднем сиденье развалился вдрызг пьяный офицер. Кучер в старой, грубой шерсти поддевке и помятом котелке выглядел как-то странно в такую жару. Он обернулся назад на офицера и покачал головой.
Мы переглянулись и поняли ситуацию без слов. Максим и Петро нырнули в прошлогодний бурьян. Я остался на месте.
Экипаж с пассажиром преодолел подъем и, не доехав до ворот метров десять, развернулся и стал. Офицер пошатываясь сошел на землю. Кучер, не теряя времени, огрел лошадь кнутом так, что она, бедняга, присела на задние ноги, будто на нее взвалили непосильный груз, и тут же вскочила и понеслась по дороге. Офицер оглянулся и заорал:
– Стой, каналья!
Но было поздно. Экипаж скрылся за скалой. Он махнул рукой и побрел к воротам. Его качало и бросало из стороны в сторону, словно шлюпку в бушующем море.
– С утра нажрался, как свинья, – буркнул я.
– Да нет! – усмехнулся Петро. – Как пить дать, всю ночь кутил, а сейчас прикатил к любовнице…
– Берем, Филя? – прошептал Максим. – Тащить далеко, но черт с ним. Второй такой гусь не попадется.
– Берем! – согласился я.
– Смотри, как это делается, Петро, – сказал Дыденко и стал разматывать тонкий, но крепкий шпагат, который достал из-за пазухи.
Я пошел навстречу офицеру. Метров в десяти от ворот остановились и смотрели друг на друга: я изучающе, а он изумленно. Штабс-капитан, а это был штабс-капитан, едва держался на ногах и икал. Пьяный, пьяный, а разглядел, что перед ним военный и ниже чином.
– Сми-и-ир-на-а! – заорал он. – Как стоишь, быдло, перед офицером. Вот я тебя сейчас…
Он дрожащей рукой открывал кобуру нагана. Я, не раздумывая, набросился на врага и подмял его под себя. Подоспели и друзья. Офицер и опомниться не успел, как лежал на земле связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту. Беляк выпучил глаза, ничего не понимая.
– Ишь, какой смирный, собака! – усмехнулся Петро.
– Он не смирный! – отозвался я. – Он ошарашен. Как это серое быдло посмело поднять руку на офицера? Подожди, очухается – наберетесь хлопот.
– Это так! – согласился Дыденко.
– Помнишь, Максим, того первого языка, как он воду варил?
– Как не помнить! Это тот офицер, который в кусты по нужде пошел?
– Он самый!
По ту сторону ворот послышались шаги и загремели запоры. Мы вздрогнули и переглянулись.
– Уберите эту падаль! – приказал я.
Дыденко и Петро подхватили пленника и в бурьян. Максим оттуда шепчет:
– Сбреши чего-нибудь насчет его благородия!
Скрипнула створка в калитке открываясь, а в окошко выглянула миловидная, как у фарфоровой куклы, головка монахини. Она глянула направо, налево и остановила взгляд на мне. Я тут же сообразил, что делать. Подражая пьяному, пошатываясь, пошел к воротам.
– Принимай гостя, матушка! – крикнул я, улыбаясь до ушей.
Розовощекое личико монахини исказилось в недовольной гримасе, словно глотнула уксуса, и, багровея, плюнула мне под ноги. С грохотом захлопнулась перед моим носом дверца окошка. Я растерянно оглянулся. Дыденко вылез до пояса из бурьяна и выразительно показывает: «Стучи!». Я развел руками и пожал плечами: «Зачем!». Максим погрозил мне кулаком. Я хмыкнул: «Поговорили!». Почесал затылок и понял, что хочет друг: он хочет, чтобы монахиня ушла совсем. Поднял с земли почти круглый голыш и забарабанил в ворота. Створка распахнулась и монахиня впилась в меня злым взглядом.
– Чего гремишь, как сатана в преисподней? – и завернула такое ругательство, что ей мог позавидовать портовый грузчик.
– Господь с тобой, матушка! – искренне удивился я. – Меня послал штабс-капитан! Он велел передать, что у него срочные дела.
– Передай ему, голубчик, что он пьяное хамло! – фыркнула, как рассерженная кошка, монахиня.
– Слушаюсь, матушка! – вытянулся я, как бывало перед ефрейтором в первые месяцы службы.
Монахиня еще раз обложила матом своего любовника и захлопнула дверцу. Вдали заглохли ее шаги. Меня распирал смех. Не выдержав, упал на траву, качался и хохотал до слез.
– Ничего смешного! – отозвался Максим.
Я прервал смех, приподнялся и изумленно глянул на Дыденко. Он сидел, опершись о монастырскую стену, поджав под себя по-татарски ноги, и дымил самокруткой. Петро лежал на боку с улыбкой на лице на примятой траве и ковырял былинкой в зубах, словно только съел мясо. Штабс-капитан, видимо, прохмелел и катался, как каток, приминая бурьян. Он выпучил, словно сыч, воспаленные глаза и мычал. Я перевел взгляд на Дыденко и удивился его озабоченному лицу:
– Ты чего, Максим?
– Да вот, думаю, как будем тащить этого пьяницу?
– А ты погони его своим ходом, – предложил я.
– Негоже! Наглядно. Одно дело пленный партизан, а другое связанный офицер.
– Мда-а! Ты прав, – согласился я.
– Вот если бы, – вмешался Петро, – коня с подводой…
– Стоп! – оборвал я рассуждение товарища. – Есть идея.
– Какая? – оживился Максим.
– Вы оттащите, – продолжал я, – их благородие к нижней дороге и ждите там. Я быстро в деревню и пришлю подводу. Да заберите у него наган.
– И то правда! В суматохе забыли разоружить.
– Ты, Максим, не рискуй. Если днем нельзя будет протащить этого пьяницу – затаитесь. На фронте как делали?
– Не волнуйся, Филя! Сделаю, как надо. Сам знаешь – опыт имею.
– Надеюсь! – вздохнул я облегченно. – Если пришлют тебя для связи, во-о-он, видишь улица, третий дом справа.
– Ты что, там будешь?
– Нет! Спросишь деда Панкрата. Он будет знать, где меня искать. Понятно?
– Удачи тебе, Филя!
– Вам того же!
Я пожал им руки и прямо по степи поспешил в деревню. Шагов через сотню оглянулся. Товарищи стояли на том же месте и смотрели мне вслед. Я помахал рукой и больше не оглядывался.